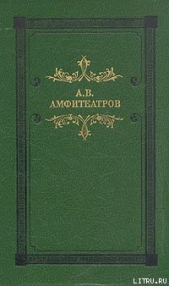Первые воспоминания. Рассказы
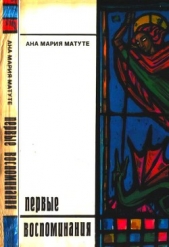
Первые воспоминания. Рассказы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты пойдешь к нему?
Китаец клал руку Борхе на плечо. Рука была странная: желтая, сухая. Враждебная, а чего-то просит или хочет. Борха сидел прямо и улыбался застывшей улыбкой, которую я так хорошо знала.
— Да. Конечно, зайду как-нибудь. Он мне дядя.
— Вроде того, вроде того, — смеялся Марине. — Ладно, пойдешь — напомни про меня, поговори о прежнем времени. У него был полный шкаф золота. Прямо столбиками сложено! «Бери, — говорит, — бери, Марине, ты парень хороший». Я ему верно служил. И не за жалованье, не-ет!
Гьем и Марине снова переглядывались и глухо смеялись. Каким бывалым казался мне Гьем, этот хитрый мальчишка с черными глазами! Борха тоже смеялся, но как-то нехотя. Марине подавал нам плохое вино, оставлявшее на губах и на зубах темный осадок. Иногда мы пили что-то крепкое, вроде агуардьенте [7], и очень веселели.
— Все острова прошел, — рассказывал Марине, и правый глаз у него сверкал, как бабушкин бриллиант. — Жаль, парусник продал… А другие говорят, не продал, сжег. Не знаю, что с «Дельфином». Ох, и любили мы этот корабль! Я как узнал, подумал: «Сеньор с „Дельфином“ расстался — значит, худо дело».
— Он не болен, — сказал Китаец. — Я видел недавно, он поливал в саду цветы.
— Худо дело, — повторил Марине, и глаз его потерялся под мохнатой бровью.
Потом они отправлялись в рощу, а я возвращалась домой на «Леонтине» и думала про все это. Приставала к берегу, поднималась к дому, не в силах забыть, как они уходили, и стряхнуть очарование разговоров. Входила в патио и тихо, чтоб бабушка не услышала, мылась и переодевалась к ужину. Бабушка спрашивала:
— Где ты была?
— Занималась.
Она смотрела, есть ли чернила на пальцах, и приближала к моим губам большой нос — не пахнет ли табаком. (Я успевала нажеваться мятных карамелек, которые Марине держал в высоких жестянках из-под бульонных кубиков.)
— Какой он, этот Хорхе? — спросила я Антонию. — Правду говорят, что к нему приходил бес?
Антония стелила мне постель и, сунув руку в пододеяльник, расправляла его. Потом обернулась.
— Он теперь очень старый. Раньше был красавец мужчина… Да, настоящий был сеньор, благородный и немножко не в себе. Тут его не могли понять. Он по-своему жил, никого не боялся, здесь такого и не видали. Он… как бы сказать? Он все сметал, словно буря. Деньги по ветру пустил, страшно подумать.
— У него еще много денег! Золота целый шкаф.
— А, что это ему! Пустяки, — сказала она.
И презрительно поджала губы. (Не знаю, почему я вспомнила фотографию, заткнутую за зеркало, — Антония с маленьким Лауро.) Она отрывисто засмеялась и добавила, словно про себя:
— Придумал… подарил Хосе с Малене участок прямо посреди откоса, на сеньориной земле… Донья Пракседес очень была недовольна.
(Небо темнело, я возвращалась домой на «Леонтине» и думала обо всем этом. Я глядела на свои загорелые, вытянутые ноги и спрашивала себя, где же правда? В жизни, казалось мне, все как-то чересчур по-настоящему. Я знала, я часто слышала, что мир — большой и злой. И мне стало страшно, что, быть может, он еще хуже, чем я думала. Я смотрела на землю и повторяла про себя, что там, внизу — мертвецы и весь каменистый остров, все его огромные цветы и деревья стоят прямо на трупах. Марине сказал как-то, что Хорхе погубил многих, что он жестокий, но самый благородный и великодушный на свете. Кого он погубил? За что? На верху откоса, у лестницы, где я толкнула Хуана Антонио, был колодец, а на нем — поросшая мхом голова дракона с открытой пастью. Когда что-нибудь падало в колодец, гулко звучало эхо. Даже когда опускалась цепь, гул стоял такой, что мороз подирал по коже. Я любила смотреть в глубину колодца, на воду, и мне казалось, что я чувствую запах темного сердца земли.)
— Видели святого Георгия в церкви? — спросил в тот день Марине. — Вот такой был наш дон Хорхе.
Пронизанный солнцем, святой Георгий, в золотом венце, в доспехах и с зеленым копьем сверкал рубиновым светом, словно вино в бокале.
— Как святой Георгий. Говорят, художник рисовал с его предка.
— Какая чушь! — сказал Китаец, снял очки и прикрыл рукой глаза. — Оставили бы в покое хоть эти дивные витражи.
(Я всегда думала, что для Китайца мученики с витражей были как старшие, мстящие за него братья. Они глядели на нас сверху, сверкали во тьме храма, где, словно гонимые ветром бумажки, бегали без страха мыши и ящерицы. А солнце, точно лев, подстерегало за стеной.)
Марине ударил кулаком по столу, и черные маслины подпрыгнули на тарелке. Гьем плотоядно захихикал, а Марине заорал:
— Сказано, как Георгий! Да, такой самый, красивый и статный. Ему есть что вспомнить, у него и талисманы, и подарки, и янтарные четки. Сам видел. Глядите. — Марине распахнул вонючий ворот, и мы увидели медальон — серебряную старую монету. — Он дал… Он был не такой, как все, выше всех. Ему говорили: «Чего вы связались с этой посудиной, чего плаваете, деньги тратите, здоровью вредите? Жили бы, как люди. Езжайте в город, на материк, развлекайтесь по-человечески, не губите себя». А он им: «Нет, я другой породы». Да, он был как ветер. Как бог какой-нибудь, верьте слову!
Марине сложил два пальца и звонко поцеловал в знак клятвы. Китаец сказал неизвестно к чему:
— Поцелуй Иуды.
Марине рассердился. Он выхватил нож, приставил Китайцу к груди. Тот отступил к стене. Ветер дул ему в лицо, он закрывал глаза — очки не успел надеть и держал их в поднятой, дрожащей руке.
— А ты какому богу служишь? — крикнул Марине. — Какому, отступник? Ты ни во что не веришь, за то и выгнали. Только в брюхо свое свинячье. — Он ткнул ножом во впавший, черный живот, на котором мелко дрожали коричневые пуговицы. — Только в свою утробу! Чему ты можешь научить этих младенцев?
Он говорил о нас.
— Смерти, вот чему! — он сплюнул. — Все про мертвецов… Ничего ты другого не знаешь. П-шел, Иуда! Иди, зови Таронхи, пускай меня берут.
Он вернулся к столу. Борха вскочил и пошел налить еще вина.
— Эй, эй, — крикнул ему Марине.
Борха обиженно и гордо показал ему деньги — они хранились в правом кармане, свернутые и перехваченные резинкой. Поднял свитер, и над ремнем показалась кобура старого дедушкиного револьвера. Марине был отходчив, он захохотал так, что лицо у него посинело.
Он продал нам контрабандного табаку и рому, а Гьему и Борхе дал тайком еще что-то.
— Нет, красоточка, не для тебя это, — сказал Борха и оттолкнул меня.
Глаза и губы у него блестели. Кажется, всем нам вино ударило в голову.
А потом мне пришлось возвращаться одной на «Леонтине». Я злилась. Они, мерзавцы, влезли в моторку Марине. Они кричали, распутывали канат, садились на корму. Солнце светило им в спину, и они были черно-красные на светлом небе, как святые на витраже. Меня злил даже ветер. Марине сказал:
— Иди в лодку, дочка. Пора тебе ехать домой…
Я знала, что пришли дни перемирия — один, два или три.
Для других дней Борха держал карабин и старый дедушкин револьвер, Хуан Антонио — кинжал, дети управляющего — плетки, а Гьем и вся его шайка — крючки из мясницкой лавки. Эта лавка была в конце крутой улочки. Я увидела однажды у ее дверей, на крюке, голову ягненка, и страшный, как будто молящий, глаз пристально взглянул на меня из синей сетки жил. Ребята крали эти крюки, уносили за пазухой и, когда мы случайно встречались на площади, нагло ими позвякивали. Спрятавшись в скалах, они швыряли в нас камнями — мимо, конечно, чтоб затеять ссору. Потом уходили в лес. Китайцу они кричали:
— Эй, Иуда!
Борха, Хуан Антонио или сыновья управляющего должны были идти за ними. В лесу, среди деревьев, начиналась жестокая, страшная схватка. Они гонялись друг за другом, а Борха целился издалека. Борьба шла молча, всерьез; я не понимала, в чем тут дело, но боялась — не того, что они покалечат друг друга, а чего-то другого, темного и жуткого. Как-то Хуана Антонио ранили крюком. Помню, кровь текла у него по ноге, по черным волосам, и он сжимал губы, чтобы не заплакать. Волновало его одно: как бы отец не узнал. Борха крепко завязал ему ногу смоченным в море платком. Бывало, ранили и Борху, но легко — он был осторожен и ускользал, как угорь, да и карабина побаивались.