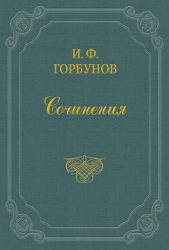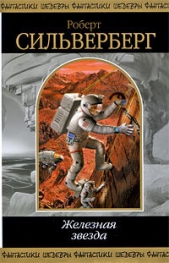Белки в Центральном парке по понедельникам грустят

Белки в Центральном парке по понедельникам грустят читать книгу онлайн
На Жозефину наседает издатель, требуя от нее новую книгу. Но ей не до творчества: младшая дочь только что завела первый взрослый роман, старшая превращается в копию своей интриганки-бабушки; расположения Жозефины добивается красавец Филипп (но не так-то просто принять ухаживания мужа своей умершей сестры!), а лучшая подруга пребывает в депрессии и постоянно требует внимания и утешения.
Однажды утром Жозефина находит на помойке чей-то дневник. Она и подумать не могла, что именно в нем найдет утраченное вдохновение и вкус к жизни…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Сердцу не прикажешь. Но он очень хорошо к тебе относится…
— Но не любит. Не любит.
Бекка собрала яблоки, сгребла вместе муку и сахар, сунула руки до локтей под кран и тщательно вытерла их полотенцем, которое висело на дверце духовки.
— Значит, мне надо возвращаться домой, к себе. Одной… Ой, как же не хочется! Как представлю, что вот останусь в своей квартирке одна, без него, без вас… Вечером буду возвращаться, зажигать свет, а дома никого… Здесь мне было так хорошо!..
Дотти присела, ссутулившись, и тихонько заплакала, зажав нос рукой.
Бекке очень хотелось как-то ей помочь, но она знала: насильно мил не будешь. Дотти оказалась немила. Она протянула ей кухонный нож:
— На-ка, держи, поможешь. Почисти яблоки и порежь их кубиками, только покрупнее. Когда на сердце тяжело, надо занять чем-то руки. Самое верное средство от тоски.
— Ничего, что тебе придется поносить брекеты? — спросил Филипп у сына в машине по пути домой.
— Куда деваться-то? — отозвался тот, рассматривая отца сбоку. — А ты носил?
— Нет.
— А мама?
— Не знаю. Я никогда не спрашивал.
— Что, в ваше время было не принято?
— В наше время? Сто лет назад?
— Да нет… — сконфузился Александр.
— Ладно-ладно, я пошутил.
— Мама все равно навсегда останется молодой.
— Ей бы такая мысль понравилась.
— А что ты помнишь самого хорошего, что у вас было?
— Тот день, когда ты родился.
— А… И как это было?
— Мы с мамой были в палате, в роддоме. Нам положили матрас на пол, и первую ночь мы спали в обнимку, а ты посередине. Мы, конечно, следили, чтобы тебя не задавить, отодвигались, но все равно это был наш самый близкий момент. В ту ночь я понял, что такое счастье.
— Так было хорошо? — спросил Александр.
— Мне хотелось, чтобы ночь никогда не кончалась.
— Значит, теперь ты уже никогда больше не будешь так счастлив…
— Значит, теперь я буду счастлив как-нибудь иначе. Но то счастье — самое лучшее из всех, какие у меня еще будут и были в жизни.
— Хорошо, что в том счастье я тоже был. Хотя я и не помню.
— Может, и помнишь, просто не знаешь… А у тебя, — осмелев, спросил Филипп, — какое было самое большое счастье?
Александр задумался, пожевывая уголок воротника. С недавних пор у него завелась такая привычка.
— У меня их было несколько, и все разные.
— Ну, например, последний раз?
— Последний раз — когда я поцеловал Аннабель на светофоре, после уроков. Это был мой первый настоящий поцелуй. Наверное, я тогда тоже чувствовал, что мир у моих ног.
Филипп промолчал. Он ждал, чтобы Александр пояснил, кто такая Аннабель.
— С Фиби было не так ярко. А с Крис тоже хорошо, но по-другому… Слушай, а можно целоваться, когда носишь брекеты? Все-таки все эти железяки на зубах…
— Тебя же целуют не за красивые зубы. А за то, как ты слушаешь, смотришь на нее, рассказываешь разные истории и еще много за что такого, что она в тебе разглядит… И о чем ты сам, может, даже пока и не знаешь.
— Да?.. — удивился Александр.
Больше он ничего не сказал. Ответ отца разбередил в нем кучу вопросов.
Филипп подумал, что ему еще никогда не приходилось говорить с сыном так подолгу и так откровенно. Как хорошо!.. Почти как той ночью в роддоме, когда он спал на матрасе прямо на полу и всю ночь чувствовал себя так, будто весь мир у его ног.
Гортензия Кортес внушала самой себе отвращение. Ей хотелось надавать себе пощечин, прибить к позорному столбу, никогда в жизни больше с собой не разговаривать. Какая жалкая, смехотворная дуреха эта… Гортензия Кортес!
Она только что упустила главный шанс в своей жизни.
И исключительно по собственной вине.
Николас повез ее в Париж на показ мод «Шанель». «Шанель»!
— Правда «Шанель»?! — завопила Гортензия. — И на подиуме будет настоящий, всамделишный Карл Лагерфельд?
— И возможность познакомиться с Анной Винтур, — небрежно обронил Николас, разглаживая розовый, как грейпфрут, галстук. — После дефиле будет коктейль, я приглашен. Соответственно и ты тоже.
— Ой, Николас… — пробормотала Гортензия, — Николас, Николас… Я даже не знаю, как тебя благодарить!
— Не благодари. Я тебя продвигаю, потому что из тебя выйдет толк. В свое время, рано или поздно, я удовлетворю с твоей помощью свой корыстный интерес.
— Ну конечно. Ты же влюблен в меня по уши!
— Ну а я о чем?
В семь часов двенадцать минут утра они отправились в Париж «Евростаром». Встали в пять, чтобы продумать, как одеться и быть на высоте. На Северном вокзале поймали такси. Скорее! В Большой дворец!
Гортензия неотрывно смотрелась в зеркальце, вделанное в темно-синюю коробочку пудры «Шисейдо», и десять раз подряд переспрашивала: «Ну как? Как я выгляжу?» Николас десять раз подряд терпеливо отвечал: «Изумительно, просто бесподобно…» Но Гортензия спросила и в одиннадцатый.
На входе в Большой дворец они предъявили пригласительный билет. Отстояли в очереди под огромным стеклянным куполом, вертя головой во все стороны: не пропустить бы ни одной детали обстановки, ни одной знаменитости. Но знаменитостей было столько, что Гортензия отчаялась всех опознать. Сам показ был великолепен. Декорации изображали фирменный магазин «Шанель» на улице Камбон, только сжатый до размеров небольшого музыкального павильончика. На стенах висели увеличенные копии знаменитых стеганых сумок, пуговиц, бантов, широкополых шляп, жемчужных бус. Вокруг сплошная белизна, элегантность. Модели вышагивали по подиуму, все как на подбор безупречные.
Гортензия бурно аплодировала.
Николас склонился к ней и проговорил вполголоса:
— Умерь свои восторги, дорогая. Люди подумают, что я привел бедную родственницу из глухой деревни.
Гортензия тут же напустила на себя пресыщенный вид и картинно зевнула, обмахиваясь приглашением.
На коктейле, остервенело расталкивая всех локтями, она добралась до Анны Винтур. Нельзя было терять ни секунды. Анна Винтур никогда не задерживалась, не жаловала чернь подолгу своим присутствием.
Гортензия протиснулась между двух телохранителей, представилась журналисткой и затараторила:
— Разрешите спросить, на ваш взгляд, скажется ли экономический кризис на показах мод, которые будут проходить в Париже на этой неделе, или, скажу яснее, может ли финансовый кризис негативно повлиять не только на объем заказов домов моды, но и на состояние духа и творческую энергию модельеров?
Она чрезвычайно гордилась своим вопросом.
Анна Винтур посмотрела на нее невидящим взглядом сквозь черные очки.
— М-м… Дайте подумать… Если позволите, я отвечу вам, когда точно пойму ваш вопрос.
И она отвернулась, сделав телохранителям знак отодвинуть эту зануду в сторону.
Гортензия осталась стоять разинув рот. На губах у нее блуждала дурацкая улыбочка. Ее попросту одернули. И кто — Анна Винтур! Как ее угораздило задать такой идиотский вопрос? Длинный, заумный, претенциозный!
Она опозорилась перед единственным в мире человеком, на кого ей было важно произвести впечатление. Вот оно что значит опозориться, подумалось Гортензии: стараться быть любезнее, оригинальнее, умнее, чем ты есть, — и шлепнуться носом в грязь при всем честном народе.
Май шел к концу. Лиз собиралась в Лос-Анджелес, и Гэри это ничуть не огорчало. Лиз была девушкой воинствующе независимой, отвергала всякий намек на мужское превосходство, букеты цветов вышвыривала в мусор, если перед ней придержать дверь — высовывала в ответ язык с сережкой… При этом она на каждом слове говорила про них с Гэри «мы», будто они двадцать лет женаты, и даже — верх непростительности — пристроила рядом с его зубной щеткой свою и оставила у него пижамную кофту.
Пижамных брюк она не надевала.
Словом, Гэри считал дни до двадцать седьмого мая. Двадцать седьмого мая, в пятницу, он усадил Лиз в такси, велел шоферу ехать в аэропорт, захлопнул дверцу и, когда желтый автомобиль скрылся за углом 74-й улицы, испустил такой радостный вопль, что на него обернулись прохожие.