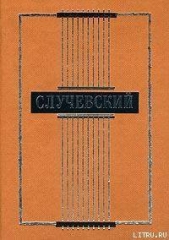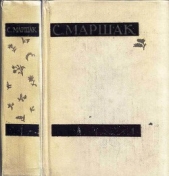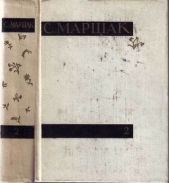Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Повести и рассказы

Собрание сочинений в 4 томах. Том 2. Повести и рассказы читать книгу онлайн
Второй том, представляющий реалистическую прозу В. Шефнера, включает в себя рассказы и повести «Счастливый неудачник», «Облака над дорогой», «Сестра печали».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вроде уже сыт, а все равно жрать хочется, — сказал я. — А тебе?
— То же самое. Только не «жрать», а «есть».
— Прости, Леля. Иногда я говорю грубо для того, чтобы все не казалось таким уж серьезным... Ты собирай банки в мешок, к сухарям, а я займусь дровами.
Подоткнув шинель, я принялся рубить стулья. Потом обрубил ножки и поперечные рейки у стола. Ножки были тонкие. То ли дело, если б здесь стоял настоящий письменный стол, сколько бы получилось дров! С фанерной столешницей пришлось повозиться, но одолел и ее.
— Нам и не увезти всего, — сказала Леля.
— Завтра утром сделаю вторую ездку, — ответил я, открывая дверцы стенного шкафа.
На полках лежали книги, тетради, стоял жестяной чайник, четыре тарелки, несколько простоквашных стаканов; валялось всякое наше общее барахло. Съестного здесь ничего не было. Я сложил все имущество на пол и стал выламывать полки. Доски пружинили, сопротивлялись, не хотели покидать привычного места. Они будто понимали, что их ждет огонь. Кое-как я расправился с ними и остановился, чтобы отдышаться.
Теперь предстояло ломать дверцы шкафа. Я уж замахнулся топором, чтобы выбить филенку, но взглянул на надписи, разбросанные на ней, и что-то остановило меня. Как будто кто-то невидимый тихо положил мне руку на плечо. «Перечитаю все это в последний раз», — подумал я. Взгляд уперся в запись, обведенную чертой:
...Истинно вам говорю: война — сестра печали, горька вода в колодцах ее. Враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать. Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури... Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю эту.
— Милый, ты очень устал. Дай теперь мне топор. — Леля подошла ко мне, но топора я ей не дал.
— Как это хорошо! — сказала она вдруг. — А кто это сказал? — Она ткнула варежкой в правый угол дверцы.
— Сказал не знаю кто, а записал, конечно, тот же Володька. Это его почерк. — Я прочел вслух: — «Мы стремились друг к другу, когда еще не знали друг друга, мы любим друг друга, пока мы существуем, — и будем любить друг друга, когда нас не будет». А внизу — это Костина приписка: «Мистика. Глупо и нерационально».
— И очень даже рационально! — сказала Леля. — Тебе не жалко ломать эту дверцу? Ведь...
— Еще бы не жалко, — ответил я и, размахнувшись топором, высадил обухом филенку. — Еще как жалко!
Мы упаковали свою добычу, плотно привязали к саням, выволокли сани на улицу. По-прежнему было тихо: ни бомбежки, ни обстрела.
— Ты привез с собой хорошую погоду, — пошутила Леля.
— Иди сзади и смотри, чтоб ничего с саней не упало, — сказал я. — Рада, что выбралась из «страшной» комнаты?
— Рада, — призналась она. — Какая-то трусиха я стала.
Мы долго втаскивали сани с их ценным грузом по Лелиной лестнице. Не так-то просто это было, но мы взяли и эту высоту. Я очень устал — и потому, что все время был голоден, и потому, что отвык от всякой работы. Последние две недели тех, кто нес в БАО караульную службу, почти не посылали в другие наряды, только изредка направляли на огнесклад. Там, в длинном и узком бараке, похожем снаружи на вагон дальнего следования, мы усаживались за длинный стол и вставляли в ленты крупнокалиберные патроны для ШКАСов — самолетных пулеметов. Если патрон плохо лез в ленту, по нему постукивали деревянным молотком — вот и вся работа.
Через переднюю мы протащили санки прямо в гостиную. Она стала теперь очень просторной и пустой, вроде жилплощади дяди Личности. Громоздкого буфета, на дверцах которого красовались резные яблоки и виноград, уже не было, и обоих книжных шкафов тоже не стало: все это сожгли. Остался диван, на нем в беспорядке лежали кое-какие уцелевшие книги. Там, где прежде стояли шкафы и буфет, видны были большие прямоугольники невыгоревших обоев; оказывается, когда-то комната была оклеена синими, а вовсе не голубыми обоями. Недорисованные холсты Любови Алексеевны висели на прежних местах, ничего им не сделалось. Одно окно было забито фанерой, в другом стекла уцелели. В гостиной стоял мороз.
— Идем в нашу двухместную каюту, — сказала Леля, зажигая огарок свечи. — Мы там теперь обе живем. Это тетя Люба так мою комнату окрестила.
Дверь Лелиной комнатки была обита клеенкой, где в синих квадратах паслись гуси и вертелись ветряные мельницы; прежде эта клеенка лежала на столе. Окно было забито потертым красным ковром. Комнатка стала очень тесной из-за второй кровати и еще из-за того, что посредине на кухонном столе стояла железная печурка. Она важно покоилась на шести коротеньких ножках, опиравшихся на кирпичи. Круглая железная труба, подвешенная на проволочках, тянулась к отверстию, прорубленному в рубашке печи. С закопченного потолка свисали черные мохнатые паутинки. Они колыхались, как водоросли тихой лесной реки. В комнатке было тепло.
— Вешай шинель вот сюда, — сказала Леля. — А почему уголки не голубые? Ты писал, что голубые.
— Заставили спороть и пришить защитные... А где тетя Люба?
— Ушла на дежурство, будет завтра утром.
— Может, нарочно смылась? — спросил я. — Проявляет заботу, хочет оставить нас наедине в райской тени?.. Только сейчас даже и никаких мыслей об этом в башку не приходит.
— Милый, я давно ничего такого не хочу. Совсем об этом забыла. Да-да-да!.. Сейчас мы отогреемся в комнате, съедим по лепешке из отрубей и по корочке, а потом сходим-съездим на Неву за водой, а потом как следует протопим буржуйку, сварим обед, будем пить вино и сгущенное молоко, а потом пойдем на речку Ждановку, возьмем лодку, выедем в залив, будем загорать и смотреть на пароходы. Только надо взять деньги, профсоюзную книжку и паспорт, а то лодку не выдадут.
— А ты не погонишь лодку прямо на пароход?.. Помнишь, как тогда?
— Нет-нет-нет! Теперь у меня никаких выходок, никаких нахлывов. Теперь твоя Лелька спокойная-спокойная, тихая-тихая...
Вечером мы сидели на Лелиной кровати возле горячей печурки. Верхний лист постепенно раскалялся, патрубок начинал светиться темно-малиновым цветом, на нем вспыхивали искорки от падающих пылинок. Из кастрюли шел вкусный пар. В трех банках из-под сгущенки вода, налитая в каждую на четверть глубины, уже закипала и становилась молоком. Я все подбрасывал в топку дощечки. Обломки филенки от стенного шкафа горели хорошо. Белая масляная краска вздувалась волдырями, волдыри лопались, и из них били синие струйки огня. «...рю вам: кто пил и ел сегодня, завтра падет под стрелами...» — прочел я на уже охваченной огнем щепке. В комнате становилось все теплей. Я расстегнул гимнастерку. Леля скинула одну кофту, потом вторую. Теперь она сидела в рабочем сереньком платье, в том самом, в котором приходила к ограде казармы.
— Надень розовые бусы, — попросил я. — Они тебе очень идут.
— Хорошо, дорогой, они тут недалеко. Но прежде они лучше сидели, а сейчас у меня шея стала слишком лебединая... Только ты не подкладывай сразу так много дров, а то загорится кошкин дом. И курица с ведром не прибежит.
— Не беспокойся, я старый кочегар... Почему это у тебя зеркало занавешено?
— Это все тетя Люба. Она говорит: «Откроем, когда кончится война. Сейчас грех перед зеркалом вертеться, когда люди гибнут...» Но я иногда смотрюсь, только все реже и реже.
— Леля, давай выпьем за нашу встречу.
— И за будущее. Пусть все-все-все будет хорошо!
— Так оно и будет, — заявил я, чокаясь с ней почти полным стаканом. — Мы еще покатаемся на лодках и позагораем. Мы даже заведем свой швертбот.
Вино было вкусное, куда вкуснее и крепче плодоягодного. Но оно не пьянило. Я сказал об этом Леле.
— Я тоже совсем трезвая, даже обидно... Выпьем еще немножко, а остальное оставим тете Любе. И Римме немножко оставим. И пора нам обедать, вернее — ужинать.
— Обедоужинать — так еще вернее.
Леля достала из кухонного стола тарелки и стала разливать дымящуюся похлебку. Я заметил, что мне она налила погуще, со дна.