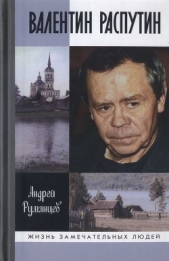Повести и рассказы
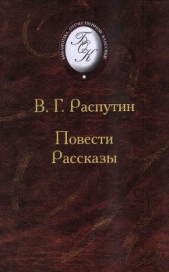
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Пустите севодни к себе… боимся мы. И он не спит, плачет, и я не могу. Так страшно… так страшно…
Их уклали на кровать, и кровать эта больше не пустовала: днем Сима еще уходила к себе, копошилась там по дому и огороду, на ночь же возвращалась к Дарье. Взяв страх один раз, она уже больше не могла от него избавиться. Но страшно было не одной только Симе. Даже Богодул разглядел как-то висящую у Дарьи в сенях под шубой берданку и обрадовался:
– Дай-ка мне. Кур-рва! Убью-у!
– Кого убьешь? – всполошилась Дарья. – Как я тебе ее дам? Ишо правду убьешь! Ты че это? На кого так?
– Гор-розят, кур-рва! Пожгут бар-рак. Я их… – Он гулко, как выстрелил, прукнул губами.
– Из ее, однако что, и стрелить нельзя. Не помню, чтоб кто брал. Ишо сам живой был…
Но Богодул снял берданку и унес – разве что попугать кого, потому что о патронах, о зарядах он не вспомнил. С патронами Дарья и не дала бы: у него ума достанет и пальнуть, если разгорячится, на то он и Богодул. Теперь только этого и не хватало. С него взятки гладки, с нее, с Дарьи, тоже много не спросишь – таскать, стало быть, возьмутся опять Павла.
Так, с поночевщиками, с Симой и мальчишкой, стали держаться вместе уже и не вдвоем, а вчетвером, как в том теремке… Картошки, всякой другой овощи было вдоволь, мучица оставалась еще из старых, из колхозных запасов, чай, соль Павел если не сам привозил, так с кем-нибудь посылал – он теперь работал на тракторе, корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться. Молоко свое; Дарья была рада, что есть наконец кому пить его, и подливала Кольке и утром, и вечером, наказывала прибегать днем. Сама она спала на печке, Катерина, как и раньше, стелилась на топчане, Симе с Колькой отдали кровать. После отъезда Андрея чаще наведывался Богодул – этот, наоборот, мало выводился днем, а ночевать уходил к себе, боялся, не подожгли бы барак. Чтобы показать берданку, он несколько раз прошелся с ней мимо конторы, громко покрякивая, покашливая, обращая на себя внимание. Приезжие вываливали на крыльцо, кричали:
– Эй ты! Партизан!
– Снежный человек!
– Турок!
– С кем воевать собрался, а? Какого она у тебя образца, пушка твоя?
– Ты спроси, какого он сам образца. Не служил ли он у Петра Первого?
– А у Ивана Грозного не хошь?
Да она у него и не стреляет.
Богодул только и ждал этих слов.
– Выдь! – показывал он в сторонку и снимал берданку из-за спины. – Выдь, кур-рва!
Но охотников проверить на себе, стреляет ли берданка, не находилось; Богодул, победно рявкнув, закидывал ее за плечо и под смех и свист, не оборачиваясь больше, удалялся.
17
А у Дарьи вечерами подолгу за разговорами не спали. Ложились в сумерках, не добывая огня, и поначалу говорили о том, с чем легли, – после раздольного чаевничанья и неспешных последних хлопот. Как водится, жаловались на старые кости, возились, кряхтели, укладывались помягче, чтобы услужить им; коротко, как расписываясь, подтверждая, что знали его, были в нем, поминали только что канувший день. Но все больше и больше мерк за окнами и изникал свет, замирали шумы, отступали мелкие заботы, и разговор успокаивался, выбираясь на вольную волю, становился задумчивей, печальней, откровенней. Старухи уже и не видели, а только слышали друг друга; сладко посапывал во сне возле Симы мальчишка, леденисто мерцали окна, огромной, одна на весь белый свет, казалась изба, в которой все еще стоял слабый, дразнящий, с кислинкой, запах дотлевающих в самоваре углей – и слова возникали как бы сами собой, без усилий, память была легкой и покладистой. О чем говорили? А о чем можно говорить? Куда заносил разговор, то и пытали, но от Матёры да от самих себя отворачивали редко, так одно по одному на разные лады и толкли.
На этот раз должно было икаться Петрухе: начали с него. Клава Стригунова, ездившая в район получать за избу деньги, встретила его на пристани в Подволочной. Петруха, рассказывала она, там при деле: занимается пожогом оставленных домов. У своих руки на такую работу не поднимаются, в это можно поверить, а Петрухе она – дело знакомое, он с ней управляется почем зря. Клавка уверяла, что за каждую сожженную постройку Петрухе платят, и платят вроде неплохо, он не жалуется. «Сытый, пьяный, и нос в табаке», – будто хвалился он Клавке, и верно, неизвестно, сытый ли, но пьяный был, а на пароход прибегал за новой бутылкой. Он звал угоститься и Клавку, но она якобы отказалась, потому что мужик, который стоял с Петрухой, показался ей ненадежным, а она была при деньгах.
Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе того, что он жжет чужие. Весь день после разговора с Клавкой она ахала со стыдом и страхом:
– Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он че, самдели последнюю голову потерял?! Как он опосле того в глаза людям хочет смотреть?! Как он по земле ходить хочет? О-ё-ёй!
Днем Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:
– Нашел все ж таки по себе работенку. А то никак не мог сыскать. Ну дак: жегчи – не строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички ишо папирёсу запалил, и грейся – куды тебе с добром! Подволошна – деревня большая, версты на три, однако что, растянулась… Там ему работенки хватит.
Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее причитанья сказала:
– Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли, какой он есть, твой Петруха? Али только он один у тебя такой? Мы с тобой на мельницу ходили, ты рази не видала, сколь их там было? Скажи им: хлеб убирать али избы жегчи – кто на поле-то останется? Заладила: страм, страм… Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает – прости, господи! – Пущай другой… пущай другой. Он-то пошто? Он на себя до смерти славушку надел, ему не отмыть ее будет.
– А начто ему отмывать? Он и с ей проживет нe хуже других. Ишо и хвалиться будет. Ты об ем, Катерина, сильно не печалься. Ты об себе попечалься. А он че: эта работенка кончится, другая такая же найдется.
– Дак я мать ему или не мать? Ить он и на меня позор кладет. И в меня будут пальцем тыкать…
– Не присбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна? То тебя и не знают. Ты сколько жить собралась – сто годов, ли че ли?
– Может, поехать туды? – не отвечая, осторожно подала на совет Катерина. – Очурать его? Сказать: че ты делаешь?
Дарья с удовольствием подхватила:
– Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лутче горят – подволошенские али материнские? Он тебе за-ради праздничка, что ты приехала, две, а то и все три зараз запалит – ох, хорошо будет видать. Опосле нам расскажешь, чью деревню солнышко больше грело. Утресь подымешься и собирайся, не тяни. Для этого дела тебя на катере отвезут. Очурай его. Че это он чужие избы жгет, ежли свои ишо не все погорели. Ох, Катерина, пошто мы с тобой такие простофили? Жили, жили и нисколь ума не нажили. Что дети малые, что мы… Ну?
И замолчали, оставив бесполезный разговор. Катерина знала, что никуда она не поедет и ничем Петруху не проймет и не вразумит: был Петруха и останется Петруха. Так, видно, до смерти своей и не бросит петрухаться, такая ему судьба. А ей судьба – быть матерью Петрухи. Надо ее бессловесно нести, смириться с нею и ни на что не роптать. Люди… Катерина стала думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала никому не нужной – ни сыну, ни, тем паче, чужим людям, будто ее и нет на свете? А может, и верно, сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее шкуре, ни для чего не годится – ни для совести, ни для стыда? Что толку мучиться и стыдиться, если никому твой стыд не надобен, никто его не ждет и ни одна душа, перед которой хотелось бы повиниться, на него не ответит? Что толку? Дарья… Она все понимает. Дарья ее не осудит. Замереть и жить только собой… и жить-то уж ничего не осталось…
А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, то же и говорила. И так же отвечала бы, наверно, Катерина на ее, на Дарьином, месте. Это что же такое? Дарья впервые так близко задумалась над тем, что значит в жизни человека положение, место, на котором он стоит. Вот ей не надо стыдиться своих детей, и она уже взяла за право спрашивать с Катерины за Петруху, поучать ее, чуть ли не виноватить. И так же, получается, разговаривала бы с нею Катерина, окажись Дарья матерью Петрухи. А где же тогда характер человека, его собственная, ни на какую другую не похожая натура, если так много зависит от того, повезло тебе или нет? И стань она, Дарья, в положение Симы, живущей в чужой деревне, без родни и защиты, с малолетним внучонком на руках – тоже была бы тише воды, ниже травы? А что поделаешь? – наверно, была бы. Как мало, выходит, в человеке своего, данного ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на сегодняшний день приехал и что с собой привез. Неужели правда она могла бы быть такой же, как Сима? – совсем ведь разные люди. Сима что-то тихонько нашептывала засыпающему Кольке. Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты всходил ночной: ярче обозначались окна, мертвым сиянием дробился мутный воздух, выплывали, покачиваясь, из невиди предметы, ложились слабые дроглые тени. Где-то на другом конце деревни, как нанялась, гавкала давно и безостановочно собака – устало, беззлобно, лишь бы не дать о себе забыть. Из Симиного шепота доносились отдельные бессвязные слова – будто тоже тени слов настоящих, такими они были тихими и одинокими. И опять Катерина негромко и печально начала: