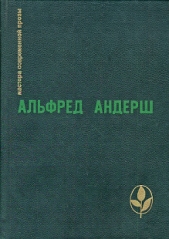Избранное
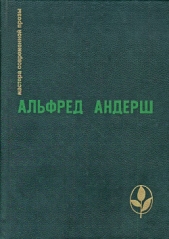
Избранное читать книгу онлайн
Альфред Андерш (1914-1980) занимает видное место среди тех писателей ФРГ, для которых преодоление прошлого, искоренение нацизма всегда было главной общественной и творческой задачей. В том его избранных произведений вошли роман "Винтерспельт", в котором выражен объективный взгляд на историю, на войну, показана обреченность фашизма, социальная и моральная; повесть "Отец убийцы" (1980), которую можно назвать литературным, духовным и политическим завещанием писателя, и рассказы разных лет.
Содержание:
Винтерспельт (Перевод: Ирина Млечина)
Отец убийцы (Перевод: Е. Кацева)
Любитель полутени (Перевод: Е. Михалевич)
Беспредельное раскаяние (Перевод: Софья Фридлянд)
Вместе с шефом в Шенонсо (Перевод: Л. Бару)
Жертвенный овен (Перевод: Софья Фридлянд)
Cadenza finale (Перевод: К. Раевский)
Мое исчезновение в Провиденсе (Схематичные наброски к роману) (Перевод: Е. Михалевич)
Утро на море (Перевод: И. Малютина)
Бегство в Этрурии (Перевод: Е. Михалевич)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы ведь часто вместе ездили в город, а потом возвращались к ней, особенно в первое время. От первой до последней остановки молча сидели рядом и непрерывно глядели друг на друга. Люди в трамвае, вероятно, принимали нас за помешанных. Иногда, если набивался народ, я уступал место и стоял возле нее, глядя сверху на ее каштановые волосы. Сплошная лирика. Каштаново-скрипичная лирика ее волос. Рейн был изжелта-серый и широкий, как и всегда.
В то воскресенье, когда я появился у нее впервые, у Доле была увольнительная. Он приехал из Дюссельдорфа, служил там на зенитной батарее. Трамвай миновал городские окраины. Вот и усадьба, которую писал Доле. Густо положенная акварель. Висела у нее в комнате, где стоял рояль. Дверь в ванную была открыта, и она мыла ванну. Доле, сидя на краю ванны, рассказывал ей очередной анекдот про графа Бобби, тот, где граф заключает бесконечный рассказ о последней измене своей подружки Мицци словами: «Опять эта проклятая неизвестность!» Открыл мне Стефан, мальчик лет семи. «Мой сын», — представила она. Я сразу догадался. Такое же маленькое смуглое личико, твердое от залегших в уголках рта черточек скрытности. Но у нее над лицом вздымается копна этих переливчатых волос. Помешал ли я Доле? Перед тем как приехать, я позвонил. Доле не подавал виду и только осторожно ко мне приглядывался.
«Следующая остановка — Роденберг», — объявил кондуктор. Сейчас снова все это увижу, думал я. Только не будет Нины. Она в турне. Сидит сейчас где-нибудь в Мюнхене и репетирует с оркестрантами Бетховена. Утверждает под бомбами немецкую культуру. Потом будет ужин у генерала М. и прослушивание иностранных радиостанций. Ритуальное обсуждение: возможно ли и когда; и если возможно, то каким образом, а если нет, то почему. А все из-за того, что наслушались Бетховена. Лучше бы переключились на Стравинского и хладнокровно предоставили бы подыхать этой подвальной крысе, Гитлеру. В Стравинском — холодный артистизм. Все же Бетховен как-то защищал Нину. Первые такты из анданте соль-мажорного концерта нейтрализовали на несколько часов действие ее губной помады. Все это мелкие солдатские мыслишки; вечером же надо возвращаться в казарму.
А может, утром, пораньше, если Нина здесь? Я вышел из трамвая. Тот же навес возле остановки, те же поблескивающие рельсы, ничего здесь не изменилось. И я тот же. До сих пор все еще в солдатской шинели. А войне не видно конца. Я пошел вдоль ручья, бившего из бетонной трубы. Вода белесо-мутная, покрытая пеной. Дорожка раскисла от сырости. Особняки предместья стояли в туманной дымке среди едва различимых деревьев. Особняки с мертвыми декабрьскими палисадниками, погруженные в молчание. По другой стороне шла девушка с хозяйственной сумкой. В первый мой приезд Нина провожала меня к трамваю по этой самой дорожке. Тогда, правда, был март, солнечный день. С минуту я еще видел, как она то исчезала среди деревьев, то снова появлялась. На ней была цигейковая шубка приглушенного оттенка; высокая гибкая птица уходила от меня прочь. Ни разу не обернулась. Доле тем временем лежал в шезлонге на террасе и, наверно, еще не проснулся, до того был пьян.
Желтое круговращенье. Эльза, служанка, развешивала в саду белье. Удивительно теплый был для марта день. Я привез Нине бутылку граппы от одного ее знакомого из моей роты. Тогда, на севере Франции, у нас в солдатской столовке, как ни странно, можно было купить это итальянское питье. «Непременно зайди к ней, — сказал он, — редко такую женщину встретишь». В армии двое, когда случайно остаются наедине, всегда говорят друг другу такие вещи. Я знал только ее имя по афишам, и мне не терпелось ее увидеть. Доле чуть не взревел, когда увидал бутылку. Сам он принес виски — естественно, немецкое, но тоже ничего. Нина сняла фартук, и мы уселись втроем на террасе. Она почти не пила. Стефан принес для нее минеральной воды. Доле и я пили виски, не разбавляя. Я себя сдерживал, но Доле опрокидывал рюмку за рюмкой. Стефан, улегшись животом на расстеленный на полу тюфяк, читал Карла Мая. «Я тоже хочу виски!» — заявил он.
Нина протянула ему ликерную рюмку, полную до краев минеральной воды. У Доле были гладкие густые черные волосы и твердое смуглое лицо римлянина. Очки в черной толстой роговой оправе. Я приехал из Пикардии, огромного, безмолвного края: бесконечные дороги, на них неуклюжие двухколесные крестьянские повозки, широкие, пустынные площади Арраса таращатся на вас своими аркадами, таверны Бапома. Эльза принесла новую корзину белья. В очертаниях ее рта, вопреки кёльнскому говору, затаилась какая-то австрийская мягкость. Доле сидел возле проигрывателя и снова и снова ставил одну и ту же пластинку, желая напомнить Нине о чем-то, что их связывало. Пластинка называлась «Where the lazy river goes by» [118](фокстрот, Рей Нобл в сопровождении оркестра, Е. Г. 3879, О. А. 02162, Электрола, акц. общество, Берлин). Итак, ленивая река все катила мимо свои воды, меж тем как мы пили и сияло солнце. Я курил трубку, и Доле был мне удивительно симпатичен. Он мне определенно нравился. Я глядел на руки Нины, в которых жила музыка. В комнате стоял открытый рояль. Мы говорили о литературе. В отношении политики все между нами было ясно. Я прочитал на память Стефана Георге:
Доле засмеялся, а Нина сказала: «Теперь я знаю, почему не люблю Георге». Положим, я сам его не люблю, но иногда он все же меня завораживает, и мне начинает казаться, будто в нем, пожалуй, что-то есть. Но это «чеканя и стих и шаг» просто безвкусно.
(Не следует никогда до конца растворяться в категориях окружающих тебя людей… Как бы ни были эти люди тебе приятны. Противоречие — вот главное. Строчки Георге были вторжением чуждого мира. Я именно этого и хотел. Хотел их раздразнить. Нет ничего скучнее всеобщего единомыслия. Если на то пошло, уж лучше внести диссонанс. К тому же своего рода интеллектуальный соблазн. Благозвучно-чуждое небольшими дозами для Нины. Показать другие горизонты никогда не мешает.)
Доле самым банальнейшим образом спросил:
— Читали вы Томаса Вулфа?
Я:
— Читал.
Пауза.
— И нравится вам?
Ну и ну! Но после этого Доле, пожалуй, сделался мне вдвое дороже.
Встал немного размять ноги. Бросилась в глаза раскрытая нотная тетрадь на рояле. Вошел в комнату и начал ее перелистывать. «Серенада ля мажор» Стравинского. Заметил карандашные поправки в тексте.
— Вы правите Стравинского? — спросил я громко, чтобы было слышно на террасе.
— Не Стравинского, — объяснила она, входя в комнату, и открыла передо мной титульный лист. — Это первое издание. Очень небрежно напечатано. Вот взгляните. — Она указала мне нотную строку. — Здесь не отмечен переход от шести восьмых к семи восьмым, у Стравинского такое немыслимо. Мне пришлось потрудиться, прежде чем я разобралась.
Да. Вот она какая, Нина. Часами корпела над партитурой. Она проиграла мне этот отрывок в обоих вариантах. Было ясно, что она права.
— Вы понимаете, это ведь все меняет, — волнуясь, сказала она.
— Пожалуй, для вас, исполнителей, — произнес Доле с террасы.
— Что ты имеешь в виду? — спросила Нина.
— Слишком вы переоцениваете ремесло и все эти тонкости. Стравинский, когда писал, об этом и не думал. Писал как пишется. А потом оказывалось: все так и должно быть.
— Тебе же не безразлично, как ты кладешь краску, так или иначе? — напряженно спросила она.
— Конечно, не безразлично, — ответил он. Я услышал, как хлопнула пробка. Это он открыл бутылку граппы. — Но я не корплю и не прорабатываю все в том смысле, в каком ты имеешь в виду.