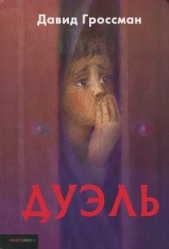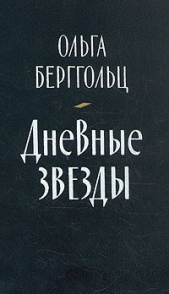См. статью «Любовь»
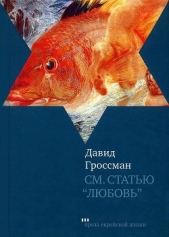
См. статью «Любовь» читать книгу онлайн
Давид Гроссман (р. 1954) — один из самых известных современных израильских писателей. Главное произведение Гроссмана, многоплановый роман «См. статью „Любовь“», принес автору мировую известность. Роман посвящен теме Катастрофы европейского еврейства, в которой отец писателя, выходец из Польши, потерял всех своих близких.
В сложной структуре произведения искусно переплетаются художественные методы и направления, от сугубого реализма и цитирования подлинных исторических документов до метафорических описаний откровенно фантастических приключений героев. Есть тут и обращение к притче, к вечным сюжетам народного сказания, и ядовитая пародия. Однако за всем этим многообразием стоит настойчивая попытка осмыслить и показать противостояние беззащитной творческой личности и безумного торжествующего нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Отто: Но она знала, Фрид, я уверен, что знала.
Фрид смотрит на него в растерянности — откуда он взялся? — слезы застилают ему глаза, он ничего не видит, он рассказывает Казику о своей безысходной тоске, о том, как ему не хватает ее запаха, лучистых морщинок вокруг глаз, которые прорезывались, когда она улыбалась, и одной такой родинки, которую он считал своей собственностью, — ведь только он один и знал о ее существовании, даже сама Паула не могла видеть ее. И чем больше он рассказывает, тем острее ощущает горечь утраты, потому что он любил Паулу больше всего на свете, у нее был удивительный талант к жизни, к ее жизни, и она всегда все делала правильно, правильно сидела на стуле, правильно перевязывала рану, в ее присутствии Фриду иногда удавалось почувствовать, что и он живет, что и в нем, возможно, есть нечто достойное хорошей, правильной жизни. Все это он изложил Казику с закрытыми глазами и мокрыми от слез щеками, он испытывал глубокую признательность к этому ребенку, подаренному ему на старости лет, потому что только благодаря Казику он начал приводить в порядок свою хаотичную и расхлябанную жизнь и оказался наконец в своем, правильном времени, как зерно, пролежавшее многие годы в неподходящем месте, на голом камне, вдруг подхватывается ветром, и опускается на плодородную почву, и начинает прорастать. Фрид говорил и говорил, хотя, в сущности, не произносил ни слова, а только мычал, и стонал, и бросал Казику в лицо какие-то отрывистые нечленораздельные звуки, потому что чувствовал, до чего же ничтожный срок им отпущен (см. статью время)! Казик едва не задохнулся под обрушившимся на него обвалом чувств, слишком тяжким для его стремительно истончавшейся жизни, под обвалом всего накопленного Фридом опыта, которым он все равно никогда не сможет воспользоваться, потому что хочет самостоятельно прожить свою жизнь и совершать собственные ошибки. Фрид открыл глаза, и с сочувствием и жалостью (см. статью милосердие) взглянул на ребенка, и увидел, до чего же тот мал, и слаб, и убог, и замолчал в печали. Так сидели двое, обняв друг друга. И врач понял, что вот сейчас он наконец сделал нечто действительно важное для своего сына.
— жалость (см. статью милосердие).
— подозрение, предположение, догадка о каком-нибудь неблаговидном поступке или отрицательном явлении.
Воспользовавшись тем, что оберштурмбаннфюрер Найгель отбыл в свой последний непродолжительный отпуск (см. статью отпуск) домой в Мюнхен, его заместитель, штурмбаннфюрер Штауке (см. статью Штауке), подкатился потихоньку к Вассерману, трудившемуся в личном огороде Найгеля, и принялся исподволь выспрашивать, «верно ли то, что про тебя говорят, будто бы ты не способен умереть?». Вассерман отрицал эти нелепые слухи. Тогда Штауке решил подступиться к старикашке с другого боку: что же такое связывает его с Найгелем?
Вассерман:
— Этот Штауке — пусть уже Господь пошлет мне, так и быть, в отличие от него долгую жизнь, пусть позволит, чтобы я умер уже после того, как увижу его на виселице! — глаза у него такие, да смилостивится над нами Всевышний, будто повыдергали у него только что все ресницы из век одну за одной. Сдается мне, что пытался он через меня прощупать атмосферу, убедиться хотел, что мы с Найгелем в самом деле уже такие большие приятели, друзья задушевные, водой не разольешь, — просто Шерочка с Машерочкой, Давид и Йонатан! Любовь и очарование! Ну что? Ведь и я не лыком шит, не вылупился из яйца в Хелме, сумел прикинуться полным дураком, опустил свои взоры долу не хуже стыдливой девицы и наплел ему всяких небылиц. Спросил, не желает ли он, чтобы жидовская нечисть вроде меня принялась сплетничать о почтенном немецком офицере, коменданте самого образцового, самого непревзойденного лагеря во Вселенной? Тотчас почернела его морда, как бока закопченного на костре котла, и поспешил унести свои ноги от меня подальше. Однако под вечер вернулся, снова принялся описывать круги вокруг моих грядок, переваливаться своей утиной походкой с боку на бок и опять завел разговор о нас двоих: обо мне и Найгеле: что это за дела такие творятся промеж нас? Слух, дескать, прошел, многие начинают различать в нем что-то странное, в моем офицере. Даже снял замечательную свою фуражку, черную, как его душа, и заблистал передо мной бритой своей лысиной, думал, повергнет меня в трепет ее сиянием, как бы не так — держи карман шире! Может, и дрожал я, как осиновый лист, но остался верен моему господину — как сказали бы умные люди, сохранил лояльность, — и не выудил из меня этот подлый лис ни единого дурного словечка, какое ему требовалось, чтобы смог он опорочить Найгеля. Под конец улыбнулся мне сладкой такой умильной улыбкой, так что облился я весь холодным потом от ужаса, и зубы, какие еще оставались во рту, принялись отбивать барабанную дробь. Повернулся мой Штауке и ушел. Подозревает он меня, ну и пусть, но ясно, как Божий день, как солнце в полдень, что и герр Найгель не чист от его подозрений, этого интригана и завистника!
— свадьба, празднество по случаю вступления в брак, а также обряд заключения брака.
Когда мы с Рути поженились, на свадьбу пришла тетя Итка, и я увидел на руке у нее пластырь. Такой наивной уловкой она решила избавить нас от созерцания номера, вытатуированного у нее на руке, поскольку не хотела омрачать нам веселье. У меня сжалось сердце от боли и жалости к ней, от невольного этого напоминания о пережитом, и еще от того, что я тотчас представил себе, что она чувствовала, когда надумала это сделать. Целый вечер я не мог оторвать взгляда от ее руки. Я видел, что там, под аккуратным чистеньким пластырем, скрывается глубокая язва, яма, пропасть, притягивающая к себе всех нас: и этот торжественно украшенный зал, и гостей, и всю нашу радость, и меня самого. Я был обязан рассказать здесь об этом. Прошу прощения.
— бойня, как овцы на заклание.
Только один раз позволил себе Вассерман поразмышлять по поводу поразительной готовности заключенных терпеть от своих мучителей любые издевательства и без малейшего сопротивления принимать мученическую смерть. Это случилось, когда Найгель, по заведенному обыкновению, вышел отобрать себе новых работников из только что прибывшего к лагерному перрону транспорта. Снова и снова смотрел Вассерман на «синих» — евреев, на которых возложена обязанность приема свежих партий узников. Они видели неторопливо приближающегося Найгеля и прекрасно понимали, что это означает для них. Но, несмотря на это, продолжали как ни в чем не бывало приветливо улыбаться и успокаивать напуганных и измученных людей, высыпавших из состава на «юден рампу», — точно так же, как это делали их предшественники, когда Найгель явился отобрать себе новый штат приемщиков две недели назад.
Вассерман:
— Великий Боже, властелин мира! Ведь и мы, когда брали нас туда, в эти душегубки, слышишь, Шлеймеле, всего-навсего один украинец был приставлен наблюдать за нами, но даже в голову не пришло нам наброситься на него, воспротивиться смерти! Царский приговор — закон. И ведь невозможно сказать, что не догадывались, что нас ждет. Ведь проживали мы в Третьем лагере уже несколько лун, и глаза наши не были замазаны глиной, и ноздри не были заткнуты ватой, и запах дыма насквозь пропитал уже наши тела и души, и, скажем, к примеру, — ну хорошо, пусть не настоящее восстание, но хотя бы удавить этого негодяя, хоть пощечину дать выродку, чтоб наказал его Господь терновниками на морде! Хоть плюнуть ему в глаза, прислужнику дьявола, порождению Содома, — и это нет! Ай-ай-ай… Искажение образа, поношение человеков… Полагаю я, смертельная обида уже текла в наших жилах, как яд, как сонное зелье. Обида, что если творят такое с Божьими созданиями, то не осталось уже в этом мире ничего святого, не осталось, ради чего вообще стоило бы жить и бунтовать. Верно ли суждение мое, Господин мира? Предали люди собственный образ, и единственное заслуженное ими наказание от убогих рук моих, что не шевельну я даже мизинцем ради сомнительной привилегии зваться человеком. А! — все эти прекрасные мысли приходят теперь, когда я окапываю грядки и очищаю землю от камней. Но ничего такого не было во мне в то время, когда гнали нас, голых и беззащитных, к душегубке. Во всех нас, я полагаю, звучит отныне один и тот же мотив. Колыбельная, порожденная скорбью и отчаяньем, большой метроном бабуси смерти отстукивает-отбивает ритм, вот она, пляска иссохшего черепа, лязг челюстей, гигантская ржавая пасть приготовлена тут для нас, в нашу честь устроено это действо: втянуть и перемолоть — так, так, так! — и мы сами становимся частью этой машины, ай, да, верно: не люди идут тут навстречу своей гибели, нет, только то, что осталось от человека после всех унижений, после того, как раздавили его и ограбили, отняли у него его самого и превратили в скрежещущий остов, в грубый чертеж человеческого характера, эдакие через силу вращающиеся зубчатые колеса, в которых нет души, нет даже воспоминания о чувстве, движущиеся конечности, общие для всех… Только такими могли мы предстать пред убивающими нас — смехотворное выражение бессильного протеста, в самом деле так, если не осталось ничего человеческого, так сделаемся рефлексией, безжалостным отражением их собственного чудовищного образа, не евреи идут тут на смерть, но добровольные оборотни, вывернутые наизнанку палачи, гнусные твари, в бесконечной извращенной процессии являющие истинный лик смердящего мира, который гонит нас на смерть… Так смертью своей выносят они ему приговор, ай, безмерная, бескрайняя, все поглощающая смерть наша, смерть, лишенная смысла и объяснения, смерть, которая пребудет отныне и до скончания веков в пустыне их никчемной жизни…