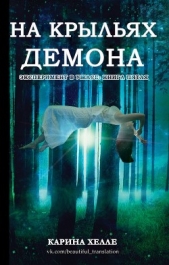Назову себя Гантенбайн

Назову себя Гантенбайн читать книгу онлайн
В одном из лучших своих романов «Назову себя Гантенбайн» Фриш рассматривает проблему исходной многовариантности жизни героев: перед человеком всегда открыты два пути, но один из них воплощается в действительности, а другой – можно прожить лишь в воображении.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это было вчера.
Есть какой-то бес, так казалось ему сегодня, и бес этот не терпит никакой игры, кроме своей собственной, он делает нашу игру своей, и мы – это кровь и жизнь, а никакая не роль, мы плоть, которая умирает, и дух, который слеп во веки веков, аминь… Из движущегося такси, с просунутой в потертую петлю рукой, он видел мир: вчерашние фасады, вчерашние площади без изменений, те же улицы и те же перекрестки, что и вчера, огромная реклама какой-то авиакомпании, уже вчера бросившаяся ему в глаза. Все без изменений: только сейчас не вчера, а сегодня. Почему всегда бывает сегодня? Праздный вопрос, должно ли так быть, тяготил его, как мокрый носовой платок в брюках. Он опустил стекло, чтобы на ходу, незаметно, выбросить хотя бы мокрый платок; но не решился. Тяготила его вовсе не измена, которую они совершили, оба, об этом ему не надо было еще думать; тяготило его просто то, что теперь это факт, тождественный всем фактам на свете. Он удивился немного. Мужчина более или менее опытный, чего же он ожидал? Уже в восьмом часу утра, когда она еще спала со своими растрепанными волосами, мир, сожженный дотла ночью объятий, снова был налицо, реальнее, чем ее объятия. Мир без изменений, с грязновато-зелеными автобусами и огромными рекламами, с названиями улиц и памятниками и с датой, которой он не хотел запоминать. И все-таки факт остается, пусть незначительный, невидимый, его не выбросить, как мокрый платок. Он ни в чем не раскаивался. Вот уже нет. Его смущало только, что сегодня не вчера. По городу этого не видно. Он был рад этому. Он сам по себе. По сути, он был очень рад. Бессмысленно встречаться снова, а он хотел бы встретиться с ней, но он не позвонит ей, даже с аэродрома, потому что он знает, что это бессмысленно… Он не поехал в гостиницу, а велел остановиться, расплатился, вышел; он хотел пойти в музей. Чтобы не быть в мире. Он хотел быть один и по ту сторону времени. Но музей был в это время еще закрыт, и вот он стоял, когда скрылось такси, на парадной лестнице, руки в карманах брюк, без пальто, господин в темном вечернем костюме, все еще небритый, с сигаретой во рту, но у него ведь не было спичек и ничего не было в карманах, чтобы покормить воркующих голубей, ничего, кроме мокрого носового платка.
Он понюхал тыльную сторону своей ладони.
Ее духи испарились…
Это кончится, если они увидятся, и это кончится, если он улетит навсегда; в любом случае, он знал, это кончится, и пет надежды уйти от времени… И вот он стоял здесь, и, поскольку было прохладно, он поднял воротник пиджака, а потом он сел на цоколь колонны, и вокруг него ворковали белые и серые голуби, которые время от времени испуганно – что могло их вспугнуть? – вспархивали с громким шелестом на классические карнизы.
Спала ли еще она?
Они обещали друг другу не писать писем, никогда, они не хотели будущего, это была их клятва:
Никаких повторений…
Никакой истории…
Они хотели того, что возможно только один раз: сиюминутности… Это было вскоре после полуночи и оставалось в силе для него, который сидел сейчас на цоколе колонны, в то время как кругом ворковали белые и серые голуби, спархивавшие с карнизов на пустую площадь и лестницу, один за другим, теперь без громкого шелеста, и не знал, что предпринять против будущего, ибо будущее, он знал, – это я, ее супруг, я – это повторение, история, бренность и проклятие во всем, я – это старение от минуты к минуте…
Он посмотрел на свои часы, которые были, однако, не на руке у него; чтобы побыстрее выйти из ее квартиры, он просто сунул часы в брючный карман. Теперь было 9.05. Если только они еще шли, его часы. В 11.30 у него было свидание, деловое совещание с последующим обедом, по-видимому. Он приложил часы, прежде чем надеть их на руку, к уху; они шли. Значит, 9.05. С тех пор как они впервые увидели друг друга – вчера, во второй половине дня, в том пустом баре, – не прошло еще суток. Никакого вчера, никакого сегодня, никакого прошлого, время еще не обогнало их ни на один крут: все сиюминутно. Их первое утро, их первый полдень. Кроме нескольких незначительных слов, когда он заказывал кофе и покупал сигареты и попросил рабочего дать прикурить, между ними не легло ни одного слова, ни одного разговора с другими людьми. Мир был еще просто вовне. Теперь он курил; он вдруг все-таки нашел спички рядом с влажным платком, и одна из них еще зажглась. И вот он сидел теперь и курил, глядя на свои черные лаковые ботинки, уже запылившиеся, и не знал, что предпринять против будущего, которое его воспоминаниями уже начиналось…
Он вспомнил квартиру: она хотела показать ему перуанские фотографии, когда он заехал за ней перед оперой, и не отказалась от намерения, хотя уже пора было спешить в театр. Он стоял в холле и ждал не без легкого нетерпения, хотя интересовалась оперой она, не он. Он предпочел бы кино – кино, а потом ужин. Он ждал, спрятав мешавшие ему руки в карманы пиджака, сведений о Перу, которые ему, по ее мнению, могли понадобиться, она все искала карту дорог Перу, ибо он тоже собирался объездить Перу на машине, если уж случится там побывать. Еще за секунду до того, как это произошло, он не поверил бы, что это возможно, она стояла и обстоятельно разворачивала карту дорог Перу. Он не поверил бы, что это возможно, вернее сказать: он вовсе об этом не думал, и, когда он почувствовал, что его рука, находившаяся, как он полагал, в пиджачном кармане, скользнула по ее лбу, он был удивлен больше, чем она. Она сделала вид, будто ничего не заметила. Разве этот жест, похожий на невинную шутку, не был уже однажды сделан? Он это забыл, вспомнил теперь и устыдился повторения. Уже днем, в том баре, рука его нечаянно скользнула по ее лбу: словно бы в шутку. Словно бы на прощанье. Она сделала вид, будто приняла это за его манеру, и вот, стало быть, они рассматривали ветхую карту дорог Перу, которую я годами хранил как сувенир, и, хотя его жест ее не обидел, все же возникла пауза, прежде чем они заговорили об особенностях перуанских дорог, теперь деловитее, чем когда-либо. Это было в восемь часов. На ней было пальто, они ведь собирались в оперу, и это не было уловкой; они и теперь еще верили, что поедут в оперу, хотя и опоздают на один акт. Ее машина, которую она даже не заперла, стояла внизу в переулке, где стоянка разрешалась только для погрузки и разгрузки, и она даже (как он увидел на следующее утро) не выключила свет. Перед картой Перу, которая так и лежала, расстеленная на сундуке, на следующее утро, когда он покидал квартиру, они говорили иначе, чем днем в пустом баре, где был флирт от смущения, только с его стороны; в баре он не знал, о чем ему с ней говорить. Теперь они говорили как два благоразумных человека перед картой Перу. Она пожалела, что ее муж уехал; ведь ее муж, сказала она, мог бы дать куда более точную информацию о Перу. Она предполагала, что он действительно собирается в Перу. Он улыбнулся. Перу! Это слово стало тем единственным именем, которое он произносил во время объятия; но этого он еще не знал, когда улыбнулся, и его улыбка немного смутила ее. Хотя он вежливо старался поделиться своими знаниями об инках, в то время как она, не садясь, впрочем и не предлагая стула, взяла сигарету, они, по сути, не знали, о чем шел разговор. Они взглянули друг на друга. Было часов девять, когда она все еще ничего не предлагала, и они все еще курили стоя, на ней все еще было пальто. Ей хотелось, кажется, нет-нет да упомянуть имя мужа, словно ей грозила опасность его забыть; ей явно стало спокойнее, когда и он один раз произнес имя ее мужа, которогоон знал только по имени, но не в лицо, и она нашла смешным, что они так и не сели. Он напомнил об опере, которая неудержимо шла своим чередом, а она села, не сняв, однако, пальто. Он долго еще не садился. Он испытывал неловкость, оттого что был без пальто; это создавало впечатление, что он не просто на минуту зашел. Он говорил стоя, говорил много, но сам был на грани скуки; руки он держал в карманах брюк, он боялся своих рук, которые его не слушались. Боялся пауз. Третий раз уже они просто глядели друг на друга, мужчина и женщина, без слов, без улыбки. Без смущения. Тем временем он все-таки сел, но так, что между ними стоял стол, и они оба словно бы страшились любого действия, которое изменило бы что-либо внешне, например поставить пластинку. Они сидели и курили. Он говорил о кошках, сам не зная почему. Было почти одиннадцать, когда они признались друг другу, что чего-нибудь выпили бы. Она сразу раздавила свою сигарету о пепельницу. Хотя удобнее было бы выпить что-нибудь здесь, в ее квартире, оба почувствовали, что должны пойти в город, чтобы что-нибудь выпить, опять в какой-нибудь бар. Это согласие озадачило его, согласие без слов. Радуясь, что им хочется выпить, оба поднялись, хотя, как он почувствовал, это не было бы нарушением обычая, если бы она около полуночи кого-нибудь угостила. Она погасила торшер. До сих пор вся квартира была освещена и все двери были открыты уже несколько часов, открыты с тех пор, как она искала карту Перу, даже дверь в кухню, словно они страшились закрытых дверей. Странно было, когда она погасила торшер, затем и верхний свет; он стоял в холле, а она ходила взад и вперед в распахнутом пальто. Фигуру ее, она как раз гасила свет в кабинете, он впервые видел с приятным сознанием, что эту фигуру он никогда не забудет – он забудет ее! Он знал это, когда сидел на цоколе колонны, а кругом ворковали белые и серые голуби, и он не мог решить, увидеться с ней опять или нет. Он хотел уйти. Куда? Он поднялся, как вчера, и стоял, держа руки в карманах своего темного вечернего костюма, как вчера в ее квартире. Он хотел выпить. Это было вчера: оба хотели уйти. Куда? Они уже стояли в холле, готовые уйти, и он ждал только, чтобы она нашла ключ от машины. Только в холле еще горел свет. Оглядываясь, словно что-то могло быть не в порядке, она уже дотронулась до выключателя левой рукой. Пойдемте! – сказала она, когда его рука, словно бы в знак прощанья с некоей возможностью, непроизвольно и в то же время иронически – он отдавал себе отчет в том, что это повторение, – скользнула по ее лбу. Пойдемте! – сказал он, и она погасила свет, и света не было больше, до тех пор пока не рассвело за окнами. Она все еще стояла в, пальто, когда всякая одежда, уничтоженная поцелуями, давно уже была смешна, это была ложь из меха и шерсти и шелка, которую отбросить было не так легко, но лжи этой требовали приличия страсти. Ей придется, сказала она, платить штраф, на ее машину наклеят квитанцию. Она сказала это, когда он, с кажущейся невозмутимостью совершая манипуляции, которые выдавали его знакомство с дамским бельем и все-таки не увенчались бы успехом без ее насмешливой помощи, уже полагал, что все будет совершенно так же, как всегда, как всегда. Он был трезв, да, но без иронии, трезв и нем. Уличный фонарь освещал потолок комнаты, потолок освещал комнату, когда он, господин в черных лаковых ботинках для оперы, в белой рубашке с галстуком и все еще с часами на руке, но без очков, которые она сняла с его лица, дотронулся до ее незнакомого тела; она пальцами прочла его улыбку по его незнакомым губам. Не знать друг друга в такой степени, которая превосходит всякую возможность знания, было прекрасно. В десять часов ровно музей открылся. Он закрыл глаза, как ребенок, который сказал, что теперь он закроет глаза, чтобы в них не попала и не погасила их ночная темень… Он сидел теперь на скамейке в зале с окнами верхнего света… Он слышал свистки с товарной станции, которой никогда не видел, пыхтенье паровозика, лязг буферов, свистки и эхо свистков, потом снова грохот товарного состава, скрежет осей, стук колес на стрелках, свистки, визг тормозов, эхо свистков, снова лязг буферов, затем тишину, снова пыхтенье. Так всю ночь. Когда он проснулся, свистки уже умолкли, он не знал, где он, воркованье голубей тоже умолкло – голубей уже не было, ни белых, ни серых, ни единого голубя… Он сидел на скамейке в зале с окнами верхнего света, где прохаживался служитель, который за мим наблюдал; он спал публично.