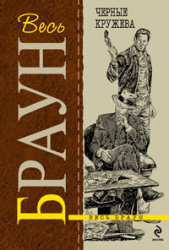Плод молочая

Плод молочая читать книгу онлайн
Герой всю жизнь любит одну женщину — Анну. Мы застаем его в тот момент, когда он обнаруживает, что репрессии, которые когда-то прокатились по стране, коснулись и его родственников. Волей случая он начинает расследовать историю своего отца и деда. И постепенно приходит к выводу, что в юности их счастье с Анной не было возможно, потому что он был сыном репрессированного. И только много лет спустя они встретились вновь и поняли, что все эти годы ждали этого. События, описанные в романе, происходят начиная с 1985 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но потом, видно, места перестало хватать (уже не чувствовалось твердой хозяйской руки), и вещи, завернув в газеты и обвязав чем попадя, просто сваливали под верстак, а в последние годы и на него. Но крохотное место перед окном все же осталось — там, где были установлены тиски и стоял гнутый венский стул — из тех стульев, которые сейчас только и можно увидеть в таких кладовках, полных пыли и ностальгии. Рядом с тисками на исструганном дереве лежали напильник и кусок затертого войлока, на котором не далее как весной кто-то полировал блесны.
Все эти вещи, покрытые пылью, как патиной времени, умерли, точнее, они старились и умирали вместе с людьми, и следующий хозяин наверняка выбросит их на городскую свалку на радость местным мальчишкам, которые растащат все мало-мальски ценное по домам, а усатый старьевщик, пропахший лошадьми и потом, довершит разорение и свезет тряпье в скупку, чтобы получить свои гроши.
И когда я вот так все представил, то решил — в мире, вообще, должны существовать музеи старых вещей, чтобы люди видели, чем все кончается, ибо процесс поучителен с точки зрения морали и схож с человеческой жизнью, ибо деяниям нашим не суждена вечность.
Таня, близоруко щурясь, искала что-то среди этих ветхих реликвий. Подняла легкую древесную пыль. Сразу запахло нагретым деревом, толем и этой пылью. Потом нашла то, что искала, сдула и вынесла на свет божий вещь, которая застала меня врасплох, о которой я никогда не вспоминал и не думал, но узнал сразу, ибо вещь эта была ключом к детству и к совершенно другой жизни, где ледяной ветерок переваливает через пологие сопки и приносит с собой белые хлопья, где рыба на крючке всегда бьется впервые и где небо так низко, что до него можно дотронуться, и руки мои тоже узнали мягкость ручки и шершавость крышки маленького фибрового чемоданчика, отцовского чемоданчика.
Да, это был он — старый отцовский чемодан, который стоял когда-то в прихожей на полке для обуви. Ранты бортиков заржавели, а материя на внутренней стороне крышки пришла в полную негодность из-за моли, но это была его вещь, которую держали его руки. Рой воспоминаний, обрывки виденного и забытого, голоса давнего, запахи той жизни взорвались, взметнулись и опали, и остался этот старый чемоданчик с сероватой крышкой в разводах от неумелого хранения.
— Откуда он у тебя? — спросил я.
— Наверное, бабулин. Он здесь давным-давно.
Вот как, подумал я, лежал и ждал.
— Это чемодан моего отца, — сказал я и ощутил, как слова дерут горло.
Тогда Таня взяла из-под верстака тряпку, не менее ветхую и пыльную, чем все, что находилось в мастерской, и, взглянув на мое лицо как-то странно (должно быть, оттого, что прозвучавшая фраза произвела над ним операцию одеревенения, — отчего я вдруг почувствовал, что у меня имеются щеки и две губы), стерла пыль и сказала:
— Надо расспросить бабушку...
— Так это Сашенькино, — сказала та, когда Таня привела ее и показала на чемодан, который я водрузил на стол. — Это Сашенькино, — повторила она, со старческой немощью взглянула на нас и стала складываться по частям. Вначале это проделали ноги с механичностью несмазанных часов, вслед за ними тело приняло наклонное положение и опустилось на стул, а затем руки выпрямились и легли на клюку, но птичка по непонятной причине не вылетела. Потом левая рука переместилась на стол, а правая, ладонью вверх, — на передник, и Таня подхватила палку и поставила в угол. А бабуля преспокойно продолжала изучать мое лицо, словно ее уже не тревожило прошлое, словно чемодан не принадлежал ее сыну и не был, стало быть, частицей ее жизни.
И тут меня просто-таки осенило — ведь они чем-то похожи с тем дедом, который стоял на кладбище и держал в руке фуражку с кокардой. И общей у них была безграничная погруженность в свою старость, из которой уже невозможно было вытянуть никакими силами.
— Баб, а как он у тебя очутился? — спросила Таня.
Да, подумал я, ужасно интересно.
— Так вы ничего не знали? Разве? — Медленный поворот. Казалось, я услышу скрип шейных позвонков. — А мы писали тогда. — И снова скрип и поворот на внучку, у которой спрашивалось объяснение моему неведению и странным вопросам, приглаживание седых волос узловатыми пальцами, кожа на которых напоминала шею черепахи, и взгляд на меня. И я представил, что за столом она, устав, подремывала где-то в углу, пока не пришла Таня, и не вытащила на светлую веранду, и не заставила копаться в памяти, но даже это не всколыхнуло ее.
— Я ездила к нему тогда и забрала вещи — этот чемодан и рукавицы в нем — все, что осталось... — сообщила она медленно, с расстановкой, в промежутках слышалось посапывание и хрипы, и когда добралась до конца, я порядком устал.
— А фотографии?
— Фотографии? — Долгое молчание, словно там, внутри, рассыпали горсть шариков, и пока каждый не попал в свою лунку, дело не тронулось с места, и наконец. — Только детские и свадебные.
Она с моей помощью подняла крышку и стала вытаскивать тряпочки и лоскутики, старые нитки и катушки и на самом дне обнаружила пакеты в пожелтевших газетах.
И я увидел странные лица, застывшие по большей части под наведенными на них объективами. Здесь было все: и светлое канотье, и мужицкие картузы, и бабочки под франтоватыми усиками, и приказчиковые жилетки с цепочками из кармашка, и блестящие штиблеты, и кирзовые сапоги, и георгиевские кресты, и кресты сестер милосердия на белых одеждах.
А потом в руки мне попал пакет из серой бумаги, и на колени посыпались фотографии.
Их было совсем немного — не больше десятка. И на одной я увидел себя рядом с матерью — крохотный белый чубчик и полосатый свитер, который наверняка связан из старых клубков шерсти, которые копятся где-нибудь в пронафталиненном шифоньере, и однажды их достают и вяжут такие детские вещи.
Когда видишь себя вот таким через тридцать лет, с тобой что-то происходит.
Что-то переворачивается в душе и корежится, потому что ты лицезреешь свою совесть, ясную и розовую, как первородное утро, и сколько ты наломал дров с тех пор, и чем ты полон, и будешь еще полон.
Потому что есть с чем сравнивать — с погожим утром, и детским взглядом, и взглядом матери на других фотографиях (вот она во дворе дома в кроличьей шубке, а здесь — гладко причесана, сидит за столом), где у нее лицо, как у мадонны, тонкое и светлое, еще не утратившее девичьей свежести.
А вот у отца, в отличие от друзей, глядящих дерзко и смело, он нежен, может быть, оттого, что рядом сидит невеста и его рука у нее на плече, а у невесты на безымянном пальце правой руки — тонкое обручальное кольцо, и одета она в белую блузку (по тем временам наверняка большая роскошь), и отворот блузки украшен брошью.
И глядя на эти фотографии, я поразился — они совсем не знали своей судьбы, а я знал и с вершины своих знаний мог снисходительно созерцать их. А если бы знали, смотрели бы так тридцать девять лет назад в объектив фотоаппарата, в котором всегда запечатлевается то, чего человек еще не знает, но что уже написано на роду.
Самая ранняя фотография отца была датирована сорок пятым годом, и на ней была надпись, сделанная блеклыми фиолетовыми чернилами: "Я собственной персоной в феврале 1945 г.".
Это была вторая записка, доставшаяся мне в наследство от него, если первой считать тот обрывок из блокнота, служивший закладкой в старой толстой книге. Не очень-то богатое наследство, и, наверное, скуднее не может быть...
Потом, в конце жизни, вы зададите себе один-единственный вопрос, а было ли что-то? Что-то, из-за чего можно было прожить всю жизнь в суете и сомнениях, грехе и хитрости.
Если бы не фотография, в него совсем нетрудно поверить...
Черт возьми, черт возьми! — куда ты влез, куда ты влез!
Вот отчего я проснулся словно в палате тяжелобольных.
Я подсмотрел маленькую тайну, поймал плевок времени, съел пьянящий гриб.
Потому что такое не проходит даром (ты теряешь веру в эту самую жизнь, судьбу, счастливые закономерности, справедливость), а во мне и так было полно этого под самую завязку. И когда-то оно переполнит тебя, и ты свихнешься и прослывешь одним из тех, кого зарывают прижизненно — при наших-то законах вполне реально.