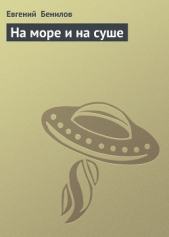Поход на Кремль. Поэма бунта
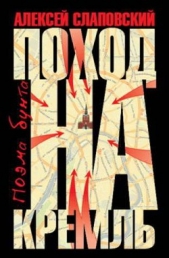
Поход на Кремль. Поэма бунта читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Согнали как-то на централ воров в законе.
Мочились суки в прохоря в тюрьме и в зоне.
А потому что там, где вор, скощуха зэку,
Блатному урке и простому человеку.
А над Владимиром висел багровый месяц,
И кто-то в камере запел грустную песню.
И грело души всем зэка той песни пламя.
Короче кажутся срока, когда поют о маме.
Это ударило по мозгам, сердцам и душам, это ударило по настроению. Все было серьезно и достойно – и вдруг. Роза Максимовна Петрова, гинеколог и дважды вдова, так уж получилось, никогда не слышала подобных песен, а если и слышала, то издали, не разбирая слов. В доме у нее не было ни телевизора, ни радио, а только книжный шкаф, в котором за последние двадцать лет не появилось ни одной новой книги – зачем, если Розе Максимовне доставляет удовольствие сотый раз перечитывать Пастернака, хотя она и знает его наизусть. И она, услышав эти слова, захохотала, пораженная гениальной нелепостью этих куплетов (и с этого момента она будет, забросив Пастернака и купив радио, слушать только шансон, записывать слова и учить их, наслаждаясь их фантастической самоуверенностью и прекрасным презрением ко всему тому, что слабые и гнилые люди называют вкусом, – но это будет после, когда Роза Максимовна выпишется из больницы). Засмеялись и другие. Омоновцы ржали, колыхаясь и постукивая друг о друга щитами, Коля Жбанов взахлеб смеялся, упав, как бы от смеха, головой на плечо Лики Хржанской, ее плечо тоже подрагивало, и от этого подрагивания, от теплого запаха кожи Коля сходил с ума. Засмеялся Саша Капрушенков, опять, увы, напившийся.
Засмеялась старуха Синистрова, вспомнившая, что забыла, когда она смеялась в последний раз.
Высунулся из люка бронетранспортера генерал Челобеев, который, оказывается, тоже был здесь, и тоже вдруг захохотал, что вызвало дополнительные приступы смеха у тех, кто уже отсмеивался.
Казалось, все сейчас кончится миром, хотя еще ничего не начиналось. Но тут Тима, увидевший, что все забито и ехать некуда, выключил песню. Какой смысл ее слушать, сидя на месте? Как говорится, в лесу унитазов не ставят.
И опять настала тишина.
– Я требую! – закричал Кабуров, спеша перехватить инициативу, но замолчал, потому что не успел продумать, чего он требует. И потом, как быть с идеей молчания?
Стояли совсем близко. Инна понемногу двигалась в сторону синеглазого гладиатора, чтобы, если будет сшибка, столкнуться с ним.
– Я требую, чтобы нас пропустили! – закричал Кабуров, сообразивший, чего нужно требовать, и на ходу отменивший идею молчания, не ставя об этом в известность свою команду: сами догадаются. И они догадались, загалдели:
– Требуем, требуем, требуем!
– А я требую, чтобы вы разошлись! – закричал Челобеев.
– На каком основании? – выскочил Холмский, обрадовавшись возможности проявить свои способности полемиста.
– На основании, что несанкционированные митинги и шествия запрещены, – объявил Челобеев всем, кто мог его слышать.
– Какие митинги, какие шествия? – закричал Холмский. – А похороны тоже запрещены? – указал он на гроб с Геннадием Матвеевичем Юркиным.
– При чем тут похороны? – поморщился Челобеев.
– Нет, запрещены похороны или нет?
Челобеев оглянулся, словно ждал от кого-то подсказки, но никого старше, чем он, тут не было.
Пришлось отвечать самому:
– Ну не запрещены. Но тут же не только похороны!
– А что еще? Мать несет убитого ребенка домой – имеет право?
Опять Челобеев был поставлен в тупик.
– Имеет, но если бы она была одна. И разве она домой?
– А что, друзья не могут находиться рядом с убитым? – тут же спросил Холмский. Насчет дома не стал уточнять, это было его предположение (допустимое – в полемических целях).
Тамаре Сергеевне стало неловко, она хотела сказать, что не домой несет сына, а туда, в центр, чтобы ЭТИ увидели, что они делают. Но подумала, что ведь там, в центре, в одном из государственных учреждений работает отец Димы.
Странно, но она за все утро ни разу о нем не вспомнила.
И он не позвонил. Наверняка слышал о том, что происходит, но и мысли не допустил, что это имеет к нему отношение.
А ведь это он, Виктор Мосин, если вдуматься, виноват во всем.
Они сошлись в Германии, вернее, тогда еще в ФРГ, где она выступала за советскую тогда еще сборную (в последние годы ее существования, потом кончилось все советское), а он был представитель от комсомола, тоже доживавшего последние деньки. То, что блудлив, видно было с первого взгляда – как вошел в ресторан, где команда обедала, как оглядел, быстро и оценивающе, всех девушек, остановившись взглядом на Тамаре чуть дольше, чем на остальных. Она была тогда красивой, с нетипичной для своего вида спорта фигурой – достаточно мощной, конечно, но при этом женственной, не кряжистой. Вечером они общались, а ночью, так уж получилось, он задержался в ее номере.
– Чем я тебе понравилась? – задала Тамара утром классический женский вопрос.
– Лучше никого нет, – ответил Виктор, повязывая галстук. И уточнил: – Тут.
Она обиделась.
Но Виктор неожиданно привязался к ней, что-то у них оказалось настолько близким, что поженились и первые десять лет жили вполне дружно. Она тренировала детей, как и сейчас, а он то занимался бизнесом, то врастал в государственные структуры – и успешно. При этом всегда был чем-то недоволен, всегда в его словах и глазах читалось брюзгливое: «Да, возможно, это лучшее – но только тут». И это касалось всего – работы, одежды, жены, квартиры, машины, друзей, еды, вина… Что бы он ни потреблял, ему почему-то грезилось: кто-то другой в это время потребляет нечто намного выше качеством, а ему вот не везет. То есть его не устраивала ни страна, в которой он жил, ни город Москва, ни семья, ни работа, но за неимением лучшего приходилось терпеть. И он терпел, хотя, чтобы другие знали свое место, постоянно напоминал им: подчиненным – что они бездельники, жене – что она стареет и худшеет, сыну – что он ленится и непослушничает. Тамара так устала, так устала от него и от его вечного зудения, что была, другие женщины не поверят, даже рада, когда он завел наконец молодую женщину – естественно, красивенькую, стройненькую, умненькую, чтобы уже не казалось, что ему достался второй сорт. И ушел к ней, вернее, ее взял к себе в построенную недавно квартиру, и был доволен около года, а потом неожиданно позвонил Тамаре и стал ей, как задушевной подруге, жаловаться на дурочку жену, на трудности по работе – в общем, завел обычную песню. Они даже несколько раз встречались – по-дружески, без чего-то особенного.
Но Дима отца к себе не подпускал. Не сумел простить. Обиделся. Обиделся больше всего на то, что отец не разглядел в нем раннего ума и таланта. Другой бы гордился таким сыном, а отец брюзжал, ворчал, читал нотации. Может быть, все, что делал Дима, было как бы для отца: на вот, посмотри, кем становится твой сын. Загляни в Интернет, полюбуйся, сколько друзей в его журнале, он, может, один из самых известных людей Рунета – тот, кого ты считал никчемным и ленивым.
Естественный результат стараний – книга. Они отмечали ее выход в ресторане. После этого Диму убили. А ведь Дима мог бы и отца пригласить, если б тот был в семье. И ничего бы не случилось: в присутствии Виктора Мосина никто не стал бы своевольничать, забирать в милицию и избивать, он бы только показал свое удостоверение – и все.
А еще Тамара Сергеевна вспомнила, что, когда она выходила из роддома, было тоже солнечно, ясно, и такие же были облака на небе. Она запомнила это еще потому, что Виктор, осторожно взяв сверток с сыном, глянул вверх и сказал: «Полюбуйтесь, ангелы!»
Какие ангелы? – не поняла тогда Тамара, она вообще очень плохо соображала после больницы, а потом, когда ехали в машине, посмотрела и догадалась: ангелов на картинах и иконах изображают в виде младенцев, лежащих на облаках, поэтому Виктор и вспомнил о них и сказал им, чтобы они полюбовались.
И она тогда заплакала.
– Я тебя умоляю, – сказал Виктор. – Только не надо послеродовых депрессий. Этого мне только не хватало.