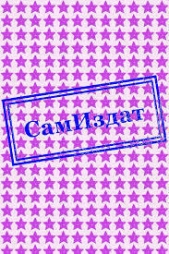Геометрический лес

Геометрический лес читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я стал прислушиваться к разговору молодых людей и понял, что тут сидят не только «лирики», занимающиеся иллюстрированием детских книг (занятие вполне земное и доходное), но и «физики» тоже. Один из физиков – человек с бородой, как у рембрандтовского Авраама, – толковал что-то о мнимостях в геометрии, рассказывал о Павле Флоренском, русском ученом энциклопедического склада – математике, физике, инженере, философе, историке античного искусства, предшественнике и родоначальнике таких ультрасовременных наук, как семиотика и кибернетика. Длиннобородый физик рассказывал невежественным «лирикам» (в том числе скептически усмехающемуся Шаляпину), что этот самый Флоренский, один из удивительнейших людей первой четверти нашего, научившегося ничему не удивляться столетия, занимался вопросами перспективы в живописи, преподавал во Вхутемасе, дружил с великим графиком Фаворским, оказал сильнейшее духовное влияние на художника Чекрыгина и был близок к каким-то большим прозрениям в той отнюдь не разгаданной реальности, которую издавна принято называть пространством. Да, пространством, оно ведь не менее загадочно, чем время. По мнению того же Флоренского, пространство было двусторонним, вроде Мебиусова листа, и Данте с его некоторыми поразительными идеями оказался, как ни странно, впереди и Ньютона, и Эйнштейна.
По-видимому, для того, чтобы не быть голословным, физик достал из портфеля книжку Флоренского «Мнимости в геометрии» и показал на обложку, напечатанную по гравюре Фаворского. Обложка действительно была необычной и как бы намекала на существование другого измерения, находящегося по соседству с привычным. Я не удержался, подошел к молодой компании, чтобы ближе разглядеть обложку, дразнившую мое воображение, как дразнила его много лет древняя дальневосточная легенда.
Бородатый физик усмехнулся и, словно догадавшись о причине моего любопытства, протянул мне книжку Флоренского. Я раскрыл ее и быстро пробежал глазами несколько фраз, подчеркнутых чьим-то изумленным карандашом:
«Вид через оконное стекло приводит к раздвоению; наряду с самим пейзажем, в сознании наличие и стекло, ранее пейзажа само увиденное, но далее уже невидимое, хотя и воспринимаемое осязательным зрением или даже просто осязанием, например когда мы касаемся его лбом. Отсюда живописная и архитектурная проблема затянутого стеклом окна, как некоего лжеотверстия и некой лжестены».
Следующая фраза стала вдруг зыбкой, словно я читал не наяву, а во сне:
«Ничто зрению, оно есть нечто осязанию; но это нечто преобразовывается зрительным воспоминанием во что-то как бы зрительное. Прозрачное – призрачно».
Физик еще раз усмехнулся и, забрав свою книжку, положил ее в портфель.
– Книжка абсолютно уникальная. Нет даже в Публичной библиотеке, – сказал он мне.
– Почему же нет? Там должна быть.
– Зачитали, – рассмеялся он. – Только не подумайте, что я. Купил случайно в букинистическом магазине на Литейном. И никому не даю читать. Берегу как зеницу ока.
21
Никогда еще и ни одну книгу я не искал с такой безудержной и нетерпеливой страстью, как «Мнимости в геометрии». Но этой книги не было нигде: ни в библиотеках, ни у знакомых библиофилов, ни в букинистических магазинах. И в те дни, когда я уже потерял всякую надежду, книга сама пришла ко мне.
Ее принес Гоша. А прислал ее с Гошей – как вы думаете? – тот самый бородатый физик? И не подумал. Ее прислал дядя Вася – водопроводчик и монтер.
Мне казалось, что все это мне снится. Книжка с гравюрой Фаворского, изображающей двусторонность физического пространства, Гошино улыбающееся лицо и спина Ивана Ивановича Смирнова, писавшего кувшин, на этот раз в ориенталистской манере Павла Кузнецова.
– Откуда у водопроводчика такие книги? – спросил я Гошу.
– У него еще и не такие есть.
– Но ведь я у него не просил.
– Наверно, сам догадался. Он догадливый. Гоша ушел, а я остался с книгой, забыв обо всем на свете, и в первую очередь об Иване Ивановиче, напевавшем песню, которую только что напевал репродуктор.
Об Иване Ивановиче я вспомнил, когда прочел вслух последнюю страницу книги:
«Имея в виду предполагаемое здесь истолкование мнимостей, мы наглядно представляем себе, как, стянувшись до нуля, тело проваливается сквозь поверхность – носительницу соответственной координаты – и поворачивается через себя, почему приобретает мнимые характеристики… Пространство ломается…»
– То есть как ломается? – удивился Иван Иванович.
– Вот и я хочу это понять. – А что тебе мешает?
– Незнание высшей математики.
Да, я не знал высшей математики, и, следовательно, все формулы (а их было немало в книжке), приводившиеся для доказательства физико-математической идеи автора, ни о чем мне не говорили.
«Область мнимостей реальна, постижима, – писал Флоренский, – а на языке Данте называется эмпиреем. Все пространство мы можем представить себе двойным, составленным из действительных и совпадающих с ними мнимых гауссовых координатных поверхностей, но переход от поверхности действительной к поверхности мнимой возможен только через разлом пространства и выворачивание тела через самого себя… Так, разрывая время, «Божественная комедия» неожиданно оказывается не позади, а впереди современной науки».
Да, это было удивительным, не менее удивительным, чем то странное обстоятельство, что владельцем уникальной и сверхсложной книги оказался водопроводчик дядя Вася. Не поможет ли он мне освоиться с ее математическим аппаратом?
Так и случилось. Дядя Вася пришел, чтобы познакомить меня с парадоксальными идеями науки, но пришел не наяву, а во сне, и все математические знаки и символы тут же улетучились, как только я проснулся и сел пить кофе по-турецки, заваренный Анютой. Анюта позевывала, не скрывая, что ей скучно со мной, она радовалась, что отпуск подходит к концу и она скоро вернется к своей уютно выглядевшей бездне, привычной, как привычна всем без исключения Земля, тоже висящая в бесконечном провале, о чем знают все, но стараются не думать.
Я не стал, конечно, рассказывать Анюте о водопроводчике и о Мебиусовом листе и Данте, который оказался впереди всех физиков и геометров. Такого рода разговоры были не для нее. С ней надо было говорить о чем-нибудь веселом, милом и смешном. Данте со своим адом и раем и Мебиус со своим листом для этой цели не годились. Анюта ценила быт и недооценивала бытие. Но однажды случай склеил бытие и быт в одно химерическое явление, куда более правдоподобное, чем любой сон. Ко мне пришел почтальон Гоша и привел дядю Васю и того молодого бородатого физика, с которым я познакомился в ЛОСХе, зайдя в тамошний буфет.
Гоша стал мне объяснять, что водопроводчик дядя Вася и физик Ермолаев находятся в близком родстве, и не только в духовном, но и в кровном тоже, они сводные братья, дети одной матери и разных отцов. И тут я действительно заметил, что у дяди Васи с физиком Ермолаевым есть кое-какое сходство. Но это небольшое сходство постепенно стало все увеличиваться и увеличиваться, как в романтически-магических сказках Амадея Гофмана, и через какие-нибудь сорок минут я вдруг убедился, что физик превратился в Васю, а Вася в физика, и их было уже почти не отличить. И тут дядя Вася стал мне объяснять с помощью физика один из самых сложных разделов в геометрии и рассказывать о двухмерных образах, и все, о чем рассказывал водопроводчик голосом, занятым у своего брата-физика, как в зеркале, отражалось на лице Гоши, которое прямо сияло от удивления и восторга.
О чем рассказывал водопроводчик, слившись с физиком в удивительное и противоречившее логике здравого смысла единство? Не только о мнимостях в геометрии, но и о задачах живописи. Он противопоставлял, как и Матисс, мнимое молчание картины ложному разговору с помощью болтливого человеческого языка. Он говорил, что язык навязывает нам уже готовые и сложившиеся представления о действительности, невольно упрощая реальность. Ведь все, что не имеет названия и имени, невольно становится неизвестным и даже непостижимым и выпадает из поля нашего зрения. Живописцу не нужно слово, оно бы помешало ему увидеть то, что еще не названо или ждет своего названия и имени и дождется его много лет спустя.