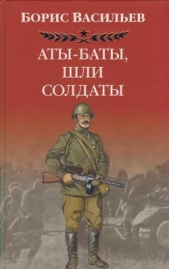Солдаты

Солдаты читать книгу онлайн
Из Архива-Музея Ивана Сергеевича Шмелёва, хранимого Ю. А. Кутыриной.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Стеф, что с тобой… проснись!… тревожно окликнула Люси.
– А… ничего… – с глубоким вздохом ответил он. Она все еще не спала, все думала. [79] Нет, это навождение! Указал ей на монастырь, желал ее!… Путаться с Машенькой, – она чудесна, как женщина… – и любить, страстно любить Люси?! И женственно-мягкий облик маленькой и веселой «египтянки» с русскими, серыми глазами, льнувшей к нему так нежно, дышавшей такою лаской, вызвал в нем грусть и радость. «Держи и держи себя, не распускай… что бы ни случилось – воли не выпускай!» – мысленно, как монах молитву, прочитал про себя Бураев заветное свое правило. И сейчас же решил – написать Машеньке, объяснить ей свое душевное, что любовь его к ней – другая, что она для него… – подумал восторженно Бураев, – словно и мать, и женщина, – сердцем он это чувствует, – и случись с ним большое горе, к ней он придет за лаской… что было бы бесчестно перед Люси, которую она так любит… что в чаду это все случилось, и надо с собой бороться.
«Если бы обманула меня Люси?…» – поглядел на нее Бураев.
Одеяло было откинуто, и голубовато-мраморная нога Люси, обнаженная до бедра, выкинулась за край постели, а роскошные руки-изваянья были закинуты в истоме. Он представил на месте себя – другого, представил Люси такой… – и задохнулся.
– Люси… – нежно позвал он шопотом. Люси не шевельнулась, но Бураеву показалось, как дрогнула обнаженная нога. Он тихо опустился на колени, прильнул губами.
– Люси…
Она дышала ровно, спала. Он прикрыл ее одеялом и долго сидел и думал, сторожил ее сон – не сон. [80]
После чада Москвы потянулись дни трезвые – работа в роте и подготовка к экзаменам. Он написал Машеньке письмо, полное неясных излияний, – рождались они неожиданно, как из влюбленности. Он называл ее самыми неясными словами, наделял достоинствами чистой из чистых женщин, умолял не строго судить его за «ту дерзость», сказанную в чаду… объяснял свой поступок «страстью, которая вспыхнула, как пожар, от ее странных чар, от ее женской ласки, особенной ласки, в которой он вспомнил что-то… в которой чувствовалась ему и мать и женщина». «Прошу вас, забудьте, не приезжайте… поймите меня, у меня Люси…» «Да, я знаю, – заканчивал он письмо, – теперь знаю, что люблю вас по особенному нежно, что вы мне дороги, что… скучаю по вас и – странно! – только о вас и думаю…»
Она прислала ему на полк коротенькое письмо – ответ:
«Милый, зачем – «вы»? Все равно, я – твоя, ты – мой. Ты будешь мой. Я не святая, и не вовсе дурная, а так… Называли меня в гимназии – «весёлка», веселая! И не любила по настоящему. А что такое – по настоящему? ты знаешь? Кажется мне, что ты вот и есть «по настоящему». Целую твои глаза. Я плачу…»
Его не удивляли резкие перемены настроений, которые замечал в Люси. Это и раньше было. Нет у ней никакого дела, и это ее нервит, и винить за это ее нельзя. После успеха с чтением у ней закружилась голова, все в нее влюблены, конечно… а прилипшая к ней артистка пишет такие письма, любовникам впору разве… Иди и иди на сцену, это священный долг!… Все [81] уже подготовлено, студия ее ждет, дело только за ней – приехать что-нибудь прочитать директору…
Это Бураева смущало. Переводиться надо? Отказать он Люси не мог.
Надо было решать, и он написал Осанке. Тот с промедлением ответил, что надо выждать, когда Гейнике назначут или бригадным, или, пока, командиром… го полка, что очень вероятно, но раньше конца маневров вряд ли. Люси нервила, размолвки их становились чаще. Первый крупный раздор случился из-за «несчастной» Малечкиной. Люси пришла от нее в слезах.
– Что за ужасные людишки!… – рассказывала она Бураеву. – Эксплуатировать так высокие чувства человека… Бросил свои дела, душу вложил, вырвал чудовище из ямы, собрал среди молодежи деньги, а эта гадина… Застала ее в такой… такое пьянство, дети в каморке, а она канканит с какими-то «котами» в малиновых рубахах… я не знала, как выскочить! Она меня изругала самыми последними словами, когда я заикнулась, что хочу видеть ее детей. Соседи уже проводили меня из ее трущобы… Говорят, не давайте, «все на «котов» прожрет». Придется написать адвокату, куда эти деньги… Отобрать от нее детей?… Я измучилась, довольно… – и она вышвырнула деньги.
– Нечего тут наивничать! – резко сказал Бураев.
– Ваш адвокат с «высокими чувствами»… хлюст известный, и ему наплевать на все!… И вытащил вашу Малечкину из каторги для общественного скандала и своего дешевого честолюбьица… да! Есть болваны, которых ловят на «высоких чувствах», а болваних и подавно. Убедились? Покрасовался молодчик перед [82] дурами с куриными мозгами, «привлек симпатии», сорвал апплодисменты, воздушные поцелуйчики… купленные газетчики расписали… а он, герой, прикрылся «вы-со-кими чувствами»!… Деньги собрал… прибежал-запыхался на вокзал… «ах, забыл самое важное… для несчастной женщины»! Убедились?… И очень рад.
Люси презрительно-дерзко слушала.
– Я всегда считала тебя солдатом! – сказала она и вышла.
– Это верно! – крикнул он ей вдогонку. – Последний мой солдатишка в роте честней брехунов продажных, ваших!… Честней ваших…! – вырвалось у него «словечко». К ним ступайте… как раз подмасть!…
– Ро-мантик!… – крикнула она за дверью.
Два дня не говорили, и опять наступило примирение. И снова размолвка, посерьезней.
– Я завтра еду в Москву, – сказала Люси решительно: дело было на Рождество. – Меня принимают в студию.
– Вот как!
– Остановлюсь у Машеньки. Странно, почему ты так медлишь с переводом? Я берусь устроить… можно? Через две недели ты получишь роту в… полку!
– Вот как?! Ты почти всемогущая. Кто же так ворожить умеет?
– Не все ли равно, кто! Скажи, и…
– Не скажу. Кто это так возлюбил… меня? и за что?! Нет, ты не вертись! Теперь, я, я тебя спрашиваю!… И ты мне должна ответить. [83]
– Ну… Машенька хлопочет! – сказала она с усмешкой, – через своего всемогущего Джугунчжи.
Бураев пристально посмотрел в глаза.
– Неправда, Машеньку не припутывай… она прямей! Со мной не играй. Я тебя спрашиваю – кто?… какая гадина-шпак смеет совать свой нос в мое продвижение по службе?… из каких видов?!… Нет, ты ответишь мне!… – в бешенстве крикнул он, отталкивая Люси от двери. – Ответишь! Кого ты смела просить за меня, за жалкого солдата, прозябающего в дыре?…
– Я же тебе сказала… И потом, я не привыкла, чтобы на меня кричали! Оставь эту… дикую манеру!…
– Оставил.
Он ушел в полк и вызвал по телефону Машеньку. Они беседовали часто, особенно в дежурство.
– Я тебя понимаю, Степанчик… – пела в телефон Машенька, – ты прав, я не посмела бы хлопотать, не спросясь тебя. А кто… право, не знаю точно. Целую тебя, гордец. Ты мне не позволяешь приехать… Ну, сделай для меня, приезжай с Люсик, хоть на один денек, на елку!… Нет денег, какая глупость… Что, нельзя? Даже от «миленькой» нельзя?… Ну, Господь с тобой.
Вернувшись после занятий, он застал Люси в спальне: она примеряла черное шелковое платье, в котором собиралась выступить «на экзамене».
– Ты солгала, как я и предполагал! – сказал Бураев железным голосом. – Кто?…
– Что – кто? Я ничего не понимаю… – сказала она, вертясь заботливо перед зеркалом, словно не было [84] ничего серьезного; но по косившему ее глазу с милой и ненавистной бровкой, Бураев понял, что в ней тревога.
– Кто?!… – повторил он тем же железным голосом, с ненавистью любуясь ею, тонкими стройными ногами, обтянутыми юбкой.
Она расхохоталась ему в глаза:
– Да что ты ко мне пристал!… Правда, идет ко мне… черная бабочка какая?… – отмахнула она рукав. – Ну как же… едем?
Это его взорвало.
– Театральности эти к чорту! – крикнул он, подходя вплотную. – Я спрашиваю вас – кто?!
– Ударишь?… – повела она вызывающе головкой, и загоревшиеся презрением черно-матовые глаза ее, с этим туманцем неги, покорявшим его всегда, поразили его холодностью.
– Я знаю, кто хлопочет! Этот прохвост, этот!…
– Сло-вечко!…