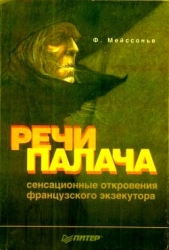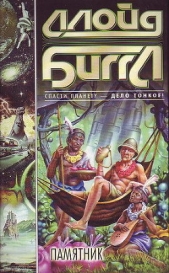Евангелие от палача

Евангелие от палача читать книгу онлайн
Роман «Евангелие от палача» — вторая часть дилогии (первая — роман «Петля и камень…» — была опубликована в конце 1990 года), написанной в 1976–1980 гг. Написанной и надежно укрытой от бдительного «ока государева» до лучших времен.
"Мы, кажется, уже привыкли к тому, что из глубин советского безвременья нет-нет, да и всплывет очередной литературный «памятник» — сталинской ли, хрущевской или брежневской эпохи…
«Памятник», лишь за чтение которого читатель мог тогда поплатиться свободой; ну а писатель ставил на карту всю жизнь. Сейчас эти открытия закономерны: перестроечной революцией нарушена омерта всеобщего покорного безмолвия, и благодарный читатель получает, наконец, то, что у него долгие десятилетия силой отнимал тоталитаризм. Предлагаемый сегодня роман «Евангелие от палача» — вторая чисть дилогии (первая — роман "Петля и камень… " — была опубликована в конце 1990 года), написанной нами в 1976-1980 годах. Написанной и — надежно укрытой от бдительного «ока государства» до лучших времен. К счастью, и авторы, и читатели до них дожили. Все остальное — в самом романе.
Аркадий ВАЙНЕР, Георгий ВАЙНЕР
Декабрь 1990 года МОСКВА
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Теплое пальто, шарф, шапку… — и снова ушел в угол. Она метнулась в спальню, оттуда слышались ее бешеные пререкания с обыскивавшим опером, потом она выскочила, неся в охапке драповую шубу на хорьках, шапку-боярку, длинный, волочившийся по полу шерстяной шарф, и стала напяливать на отца. Он вяло отталкивал ее руки, бессмысленно приговаривая:
— Зачем, сейчас тепло…
— Надевай, надевай, тебе говорят!
Закричала она грубо, и в этом крике вырвалась вся ее мука. И стала запихивать в рукава руки отца, бессильно мотавшиеся, словно черные хвостики хорь-ков на меховой подкладке шубы. Да, видно, на крике этом иссякли их силы, кончилось терпение. Обхватили друг друга и в голос зарыдали.
— Прощай, жизнь моя… — плакал он над ней, над последним ростком, над единственным клочком своей иссякающей жизни.
— Сердце мое, жизнь моя…
И в негромких его старушечьих причитаниях слышал я не скорбь по себе, не страх смерти, не тяготу позора, не жалость о покидаемом навсегда доме, не досаду потери почетного и любимого дела, а только боль и ужас за нее, остающуюся.
— Ох, и нервный вы народ, евреи, — сказал с кривой ухмылкой Минька. — Как на погост провожаете.
Я моргнул ему: «Забирай!» Железной рукой он взял Лурье за плечо: — Все, конец. Пошли…
Вслед им я крикнул:
— Скоро закончим обыск и подъедем.
Тяжело евреям. Потому что они не восприняли наш исторический опыт. Мы ведь все наполовину татарва и выжили, поскольку наши пращуры-мужики соображали: захватчику надо отдать свою бабу, другого выхода нет. Отсюда, может, наша жизнеспособная гибкость рабов, вражьих выблядков.
Обыск и впрямь закончили быстро. Какие у него здесь могли быть следы преступной деятельности? Для отравительства и вредительства у Лурье была целая клиника. Обыск — вещь формальная и ненужная, как и присутствие на нем двух понятых, дворника и соседской бабки. Бестолковые, до смерти напуганные болваны, которые как бы свидетельствовали, что все на обыске происходило правильно. Надзор общественности. Представители населения. Народ понятых. У Фиры Лурье так тряслись руки, что она не могла подписать протокол обыска. Не глядя на лист, поставила косой росчерк Римма. Оперативники и понятые отравились на выход, я задержался, долго смотрел на нее, и она безнадежно-растерянно сказала:
— Боже мой, это ведь все какое-то ужасное недоразумение…
Я помотал головой, еле слышно шепнул ей на ухо:
— Это не недоразумение. Это несчастье.
Она вцепилась ладошками в отвороты моего модного кожаного реглана, она хваталась за меня, как падающий с кручи цепляется за хилые прутики, жухлую траву, комья земли на склоне:
— Что делать? Что делать? Подскажите, умоляю! Посоветуйте!…
И опять я посмотрел в ее бездонные еврейские пропасти, полные черноты, сладости, моего завтрашнего счастья.
— Ждите. Все, что смогу, сделаю. Ждите.
— А как же мы узнаем?
— Завтра в шесть часов приходите к булочной на углу Сретенки…
Мягко отодвинул ее и закрыл за собой дверь.
Прикрыл дверь в Сокольниках и вынырнул у себя в ванне в Аэропорту.
Трезвонит оголтело входной звонок, смутные, неясные голоса в прихожей. И сердце испуганно, сильно и зло вспархивает в груди — аж пена кругами пошла.
Это Истопник явился. Истопник за мной пришел. С Минькой Рюминым. Минька потащит меня, голого, из ванны, а Истопник будет шептать Марине: «…пальто, шарф, шапку…» Ерунда все! Просто напасть! Какой еще Истопник? И где Минька? Незапамятно давно его расстреляли в тире при гараже Конторы. На Пушечной улице, в самом центре, в ста метрах от его роскошною кабинета заместителя министра. Он ведь, можно сказать, на моей семейной драме сделал неслыханную, фантастическую карьеру. За четыре года — от вшивого следователя до замминистра по следствию. Мне это не удалось. Я не хотел, чтобы меня расстреляли. Интересно, вспоминал ли этот глупый алчный скот, которого я создал из дерьма и праха, как он снисходительно-покровительственно похлопывал меня по плечу, приговаривая весело: «Тебе же ни к чему все эти пустяковые регалии и звания — ты же ведь наш советский Скорцени…»?
Вспоминал ли он об этом, когда его волокли солдаты конвойного взвода по заблеванным бетонным полам в подвал, когда он, рыдая, ползал перед ними на коленях, целовал сапоги и умолял его не расстреливать? Понял ли он хоть тогда, что ему не надо было хлопать меня по плечу? Наверное, не понял. Чужой опыт ничему не учит. А когда приходит Истопник — учиться поздно… Я был не замминистра, а наш простой советский Скорцени. Поэтому меня не расстреляли, а лежу я теперь, спустя четверть века, в горячей ванне, и меня все равно бьет озноб напряжения, с которым я прислушиваюсь к голосам из прихожей. Тьфу ты, черт! Это же Майка! Это ее голос, ей что-то отвечает Марина. Сейчас предстоит, я чувствую, мучительный разговор. Надо бы подготовиться. Но в голове только дребезг осколков чайного сервиза, сброшенного со шкафа до твоего рождения. Истопник порчу навел. Надо вылезать из ванны и нырять в кошмар реальной жизни. Не то чтобы меня очень радовали все эти воспоминания, но в них была устойчивость пережитого. А в разговоре с Майкой — сплошная мерзость, ненависть, зыбкость короткого будущего, мрак угроз Истопника.
Надел махровый халат, выдернул в ванне пробку, и бело-голубая пена с рокотом, с тихим голодным ревом ринулась в осклизлую тьму труб. Так уходят воспоминания в закоулки моей памяти. Где выйдете наружу, страшные стоки?!
Майка сидела на кухне, и Марина ей убежденно докладывала:
— Нет, Майя, и не говори мне — любви больше нет. Потому что мужчин нет. Это не мужчины, а ничтожные задроченные служащие. Любить по-настоящему может только бездельник. У остальных нет для этого ни сил, ни времени…
Все-таки биология — великая сила. Если смогла одними гормонами привести к таким правильным выводам мою кретинку. Майка сказала мне:
— Привет…
— Привет, дочурка, — и наклонился к ней, чтобы поцеловать. И она вся ко мне посунулась, ловко подставилась, так нежно ответила, что пришелся мой поцелуй куда-то между лопатками и затылком. Ничего не поделаешь, искренние родственные чувства не знают границ. Но Марина смотрела на нас ревниво и подозрительно. Моих родственников она воспринимает только как будущих наследников, и они ей все заранее противны. Они, можно сказать, мучится ежечасно со мной, страдая ужасной тепловой аллергией, а как только я умру, они тут же слетятся делить совместно нажитые нами трудовые копейки. Как вороньё на подаль! Сволочи эдакие! Ах ты моя дорогая ласточка, горлица безответная! Ты себе и представить не можешь, какой ждет тебя сюрприз, если ты вынешь главный билет своей лотереи и станешь вдовой профессора Хваткина!
Мои «капут портуум» — бренные останки — будут еще лежать в дому. а ты уже станешь просто побирушка, прохожая баба с улицы, нищая случайная девка, с такими же правами, как лианозовский штукатур. Это я на всякий случай предусмотрел, хотя искренне надеюсь, что мне не придется тебя огорчать подобным образом. Лучше я на себя возьму трудную участь горько скорбящего, но крепящегося изо всех сил вдовца. Да и чувство мое будет свободно от всякой примеси корысти. -Выглядишь ты несколько поношенно, — сказала мне дочурка. Марина перевела настороженный взгляд с Майки на меня и обратно, напрягла изо всех сил свои чисто синтетические мозги — не сговариваемся ли мы в чем-то против нее? Она была очень красива, похожа на крупную рыжую белку. Белку, которой злой шутник обрил пушистый хвост. И она стала крысой.
Я давно знал, что белки для маскировки носят хвост. Без своего прекрасного хвоста они просто крысы. — Я устал немного, — сказал я Майке. Она посочувствовала, расстроилась:
— Живешь тяжело: много работаешь, возвышенно думаешь… За людей совестью убиваешься…
— Как же! — возмутились Марина. — Убивается он! Сам кого хошь убьет.
Она ловила наши реплики на лету, но не понимала их, будто мы говорили по-кхмерски. И поэтому вскоре взяла разговор на себя: пожаловалась на трудности совместной жизни со мной, на сломанную мною судьбу, а Майка, внимая этой леденящей душу истории, еле заметно, уголками губ, улыбалась.