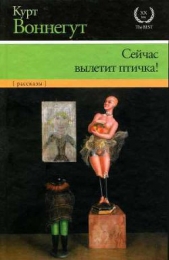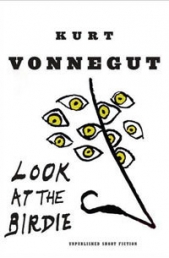Малый не промах

Малый не промах читать книгу онлайн
Известный современный американский писатель Курт Воннегут, хорошо знакомый советскому читателю по таким произведениям, как «Бойня номер пять», «Колыбель для кошки», «Завтрак чемпионов» и др., в своем новом, пронизанном антивоенным пафосом романе в характерной для его писательского почерка гротескно-сатирической манере обличает буржуазно-обывательскую среду, в разные времена становившуюся благоприятной социально-психологической почвой для милитаристского психоза. Роман призывает к ответственному отношению к судьбе мира.
© 1982 by The Ramjac Corporation
© Перевод на русский язык «Иностранная литература», 1985
© Предисловие издательство «Радуга», 1988
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы знали, что миссис Рузвельт начнет свою речь, как и все прочие: «Не верится, что я и в самом деле приехала в Мидлэнд-Сити, в Огайо».
Чтобы в студии пахло красками, как в настоящей студии художника, отец нарочно капал на заслонки воздушного отопления скипидар и льняное масло. Когда гость входил в студию, там уже звучала классическая музыка – отец всегда выбирал пластинки с записями классики (но только не немецкой, по крайней мере с тех пор, как он решил, что быть нацистом все-таки не совсем прилично).
У отца еще сохранились импортные вина – их подавали даже во время войны, а к ним сыр «Лидеркранц», и отец обязательно рассказывал, как его изобрели.
Кормили у нас превосходно, даже когда наступили военные времена и мясо выдавалось строго по карточкам: Мэри Гублер отлично умела приготовить не только всякую рыбу, которую ловили в Сахарной речке, но и мясные отходы, которые продавали без карточек, потому что все считали их несъедобными.
Рагу из требухи по рецепту Мэри Гублер. Взять свиные кишки, нарезать небольшими кусочками, хорошо промыть, часто сменяя воду, пока не сойдет весь жир.
Варить около трех-четырех часов с луком, травами, чесноком. Подавать с зеленью и овсяной кашей.
Мы угощали Элеонору Рузвельт именно этим блюдом, когда она приехала к нам в День матери в 1944 году – рагу из требухи по рецепту Мэри Гублер. Ей это блюдо очень понравилось, и, так как она была настоящей демократкой, она пошла на кухню и долго разговаривала с Мэри Гублер и другой прислугой. Конечно, при ней, как водится, вертелись агенты секретной службы, и один из них спросил моего отца:
– А у вас, говорят, большая коллекция огнестрельного оружия?
Видно, агенты секретной службы о нас все разнюхали. И им, конечно, было известно, что некогда мой отец очень почитал Гитлера, но потом его отношение к фюреру, надо думать, коренным образом изменилось.
Тот же агент секретной службы спросил, что это за музыку играет наш патефон.
– Это Шопен, – сказал отец. И когда этот агент открыл рот, чтобы задать еще один вопрос, отец догадался, что именно он хочет узнать, и перебил его: – Шопен – поляк, – сказал отец. – Поляк – слышите? – поляк!
Кстати, только сейчас, когда мы с Феликсом тут, в Гаити, сравнивали наши воспоминания, мы поняли, что всех наших знатных гостей заранее предупреждали, что наш отец никакой не художник. Потому, что никто из них никогда не просил отца показать какие-нибудь свои работы.
А если бы кого-то забыли предупредить или у гостя хватило бы нахальства попросить отца показать ему свои произведения, тот, наверное, показал бы небольшое полотно, стоявшее на грубо сколоченном мольберте. На этот мольберт можно было поставить холст размерами приблизительно 2,5 на 3,5 метра. И, как я уже говорил, этот мольберт по ошибке легко было принять за гильотину, особенно в комнате, увешанной всяким старинным оружием.
Маленькое полотно, повернутое обратной стороной к посетителям, смахивало на упавший нож гильотины. Это был единственный холст, и других холстов на мольберте я никогда не видал за все наше существование на этой планете вместе с отцом; но, вероятно, некоторые гости все же не постеснялись заглянуть на ту сторону. Кажется мне, что миссис Рузвельт заглянула. И я уверен, что агенты секретной службы – тоже. Им-то надо было всюду сунуть свой нос.
А увидели они на холсте только причудливо и дерзко разбросанные мазки, достойные подающего надежды художника; тогда отец жил в довоенной Вене и ему было всего двадцать лет. Это был набросок – нагая натурщица в студии, которую отец снял, съехав от своих венских родственников. В студии был верхний свет. На столе, покрытом клетчатой скатертью, стояло вино, сыр и хлеб.
Ревновала ли его мама к этой голой натурщице? Конечно, нет. Этого и быть никак не могло. Когда отец начинал эту картину, маме было всего одиннадцать лет.
Этот набросок был единственной работой моего отца, какую мне довелось видеть. В 1960 году, когда отец скончался и мы с мамой переехали в наш крохотный трехкомнатный «нужничок» в Эвондейле, мы повесили картину отца над камином. Этот самый камин и стал причиной маминой смерти, потому что каминная доска была сделана из радиоактивного цемента, оставшегося от программы «Манхэттен» – программы создания атомной бомбы во время второй мировой войны.
Я думаю, этот набросок еще валяется где-нибудь в нашей конурке, потому что Мидлэнд-Сити теперь находится под охраной Национальной гвардии. А для меня этот этюд имеет особое значение. Он служит доказательством того, что мой отец хоть на минуту в ранней-ранней юности почувствовал, что себя самого и собственную жизнь он может воспринимать всерьез.
Я словно слышу, как он, глядя на свой многообещающий набросок, с удивлением говорит сам себе:
– Боже ты мой, а ведь я все-таки художник!
Но он ошибался.
И вот за тем ленчем, когда мы поели потрохов и запили их черным кофе с крекерами и сыром «Лидеркранц», миссис Рузвельт рассказала нам, с какой гордостью, как самоотверженно и напряженно работают все – даже женщины – у конвейера по сборке танков на заводе «Грин даймонд». Там они трудились денно и нощно. Даже во время ленча в День матери стены отцовской студии тряслись от грохота проходящих танков. Танки шли на полигон, расположенный на месте бывшей молочной фермы Джона Форчуна, где потом братья Маритимо построили целый поселок «нужничков», получивший название Эвондейл.
Миссис Рузвельт знала, что Феликс только что ушел в армию, и она сказала, что просит бога хранить его. Она сказала, что ее мужу горше всего сознавать, что победа достигается ценой стольких жертв, стольких молодых жизней.
Как и отец, она тоже подумала, что мне уже шестнадцать лет – ее сбил с толку мой высокий рост. Во всяком случае, она решила, что меня тоже вот-вот должны забрать в армию. Но она надеялась, что до этого дело не дойдет. А я надеялся, что до того мой голос успеет огрубеть. Она сказала, что после победы мир обновится, жизнь станет чудесной. Всем, кто нуждается в пропитании, в лечении, окажут помощь, и люди будут свободно высказывать вслух все, что они думают, будут по своей воле выбирать себе религию, какая им придется по душе. Ни одно правительство не посмеет творить беззаконие, потому что против него тогда сплотятся все государства в мире. Вот почему никогда не будет никакого нового Гитлера. Его раздавят, как клопа, не успеет он оглянуться.
Тут отец спросил у меня, почистил ли я винтовку «спринг-филд». Это была теперь моя обязанность – выдав ключ от оружейной комнаты, на меня возложили обязанность чистить все оружие.
Теперь Феликс уверяет, что отец считал это такой честью и сделал из ключа какой-то фетиш только потому, что ему самому было просто лень хоть разок почистить ружье.
Помню, что миссис Рузвельт вежливо осведомилась, умею ли я обращаться с огнестрельным оружием. Мама тоже в первый раз услыхала, что отец дал мне ключ от оружейной комнаты.
Отец объяснил им, что мы с Феликсом умеем пользоваться огнестрельным оружием малого калибра лучше, чем большинство военнослужащих, и повторил то, что твердят обычно все члены Национальной стрелковой ассоциации: как прекрасна и естественна эта влюбленность каждого истинного американца в огнестрельное оружие. Отец добавил, что стал нас обучать стрельбе с такого раннего возраста, чтобы осторожность стала нашей второй натурой.