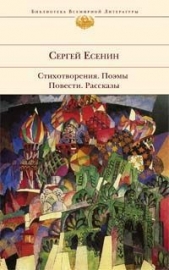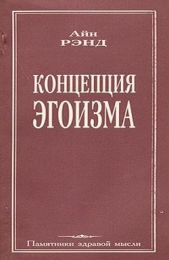Зависть, или Идиш в Америке

Зависть, или Идиш в Америке читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Страдание, страдание, — сказала она. — Мне больше всего нравятся черти. Они не думают только о себе, и они не страдают.
Внезапно, взглянув на Ханну — Г-споди, он, старик, смотрит на ее гибкую талию, под которой спрятано яблочко ее утробы, — внезапно, вдруг, в одно мгновение он впал в хаос, в транс правды, реальности: неужели такое возможно? Он увидел, как все чудесным, благословенным образом переменилось — все было просто, четко, понятно, истинно. Понял он следующее — гетто было настоящим миром, а внешний мир был всего лишь гетто. Потому что в действительности кто был исключен? Кто в таком случае действительно похоронен, убран, скрыт во тьме? Кому, на каком малом пространстве Б-г предлагал Синай? Кто хранил Тераха [63] и кто шел вслед за Авраамом? В Талмуде объясняется, что, когда евреи отправились в изгнание, в изгнание отправился и Г-сподь. Быть может, реальный мир — это Бабий Яр, а Киев с немецкими игрушками, Нью-Йорк с его запредельной интеллектуальностью — это все вымысел, фантазия. Нереальность.
Морок! Он был такой же, всю жизнь был такой же, как эта вредоносная темная девица: он жаждал мифологий, призраков, зверей, голосов. Западная цивилизация — его тайный грех, ему было стыдно того, как билась в нем любовь к себе, усугубленная его самососредоточенностью. Алексей со страстно полыхавшей кожей, его грузовички и паровозики! Он жаждал быть Алексеем. Алексеем с немецкими игрушками и латынью! Алексеем, которому судьбой было предначертано вырваться в свободный мир, бежать из гетто, дорасти до инженера при западной цивилизации! Алексей, я покидаю тебя! Я дома только в тюрьме, история — моя тюрьма, овраг — мой дом, ты только послушай, допустим, окажется, что судьба евреев — в просторах, открытости, вечности, а западная цивилизация обречена увянуть, иссохнуть, ужаться до гетто мира, и что тогда будет с историей? Короли, парламенты — как насекомые, президенты — как паразиты, их религия — куколки в ряд, их живопись — копоть на стенах пещер, их поэзия — похоть: Авремеле, когда ты скатился с края оврага в могилу, ты впервые очутился в реальности.

Ханне он сказал:
— Я не просил родиться там, где был идиш. Так мне было предназначено.
А имел в виду — так я был благословлен.
— Так храни это, — ответила она, — и не жалуйся.
В экстазе гнева он ударил ее по губам. Безумец снова разразился смехом. Только теперь стало понятно, что приступ смеха что-то остановило. Арфа-то умолкала. Пустоту заполнил кровавый хохот, ошметки чего-то красного в блевотине на подбородке Воровского, клоуны сбежали, шапка Воровского меховым пиком свесилась на грудь — он дошел, проваливался в бездну сна, он спал, дремал, из него извергался рокот, он икал, просыпался, смеялся, в нем поселилась тоска, и он продолжал то кемарить, то смеяться, и тоска не разжимала своей хватки.
Рука Эдельштейна, пухлая подушка ладони, запылала от нанесенного удара.
— Ты, — крикнул он, — ты и понятия не имеешь, кто ты есть! — В памяти всплыло, что мудрецы говорили про Иова, шелухой слетело с языка, никогда его не было, не существовало. — Ты не была рождена, ты не была создана! — вопил он. — Так я тебе скажу, мертвый человек тебе это говорит, у меня хотя бы была жизнь, я хотя бы что-то понимаю!
— Умрите, — сказала она, — умрите сейчас, вы, старики, чего вы ждете? Повисли у меня на шее, он, а теперь еще и ты, все вы паразиты, давайте, помирайте.
Ладонь горела, он впервые в жизни ударил дитя. И почувствовал себя отцом. Разверстый рот зиял. От злости, наперекор инстинкту, она даже не прикрыла синяк — он видел ее зубы, слегка наезжающие друг на друга, далекие от идеала — тоже уязвимые. Из носа от возмущения текло. Губа опухла.
— Забудь идиш! — орал он. — Сотри из памяти! Вырви с корнем! Пойди, сделай операцию на мозг! У тебя нет на него права, нет права ни на дядю, ни на деда! Перед тобой не было никого, ты не была рождена! Ты — из пустоты!
— Вы, старые атеисты, — ответно вскинулась она, — вы, старые, дохлые социалисты. Надоели! Надоели до смерти! Вы ненавидите чудеса, ненавидите воображение, вы разговариваете с Б-гом и ненавидите Его, презираете, надоедаете, завидуете, вы пожираете людей своей мерзкой старостью — вы каннибалы, вас не заботит ничья молодость, кроме вашей, но вам крышка, хоть другим шанс дайте!
Это его остановило. Он прислонился к дверному косяку.
— Шанс на что? Я тебе не дал шанса? Да такой бывает раз в жизни! Опубликоваться сейчас, в юности, в младенчестве, на заре жизни! Будь я переведен, я был бы знаменит, этого ты никак понять не можешь. Ханна, послушай, — сказал он ласково, вкрадчиво, уговаривал ее как отец дитя, — тебе вовсе необязательно любить мои стихи, разве я прошу тебя их любить? Я не прошу тебя их любить, не прошу их уважать. Человеку в моем возрасте кто нужен — возлюбленная или переводчик? Я что, одолжения прошу? Нет. Слушай, — вспомнил он, — я забыл сказать тебе одну вещь. Это деловое соглашение. Не более того. Деловое соглашение в чистом виде. Я тебе заплачу. Уж не подумала ли ты, избави Г-споди, что я тебе не заплачу?
Теперь она прикрыла рот. Он, к собственному удивлению, едва сдерживал слезы; ему было стыдно.
— Ханна, прошу тебя, скажи, сколько? Вот увидишь, я тебе заплачу. Купишь себе все, что пожелаешь. Платье, туфли… — Готеню, [64] что нужно этакому дикому зверю? — Купишь себе еще сапожки, любые, какие понравятся, книги, всё… — И твердо подытожил: — Ты получишь от меня деньги.
— Нет, — сказала она, — нет.
— Прошу тебя! Что со мной будет? Что не так? Мои мысли недостаточно хороши? Кто тебя просит верить в то, во что верю я? Я старый человек, отживший свой век, мне больше нечего сказать, все, что я говорил, было подражанием. Я когда-то Уолта Уитмена любил. И Джона Донна. Поэты, мастера. А у нас, у нас-то что есть? Идишский Китс? Никогда… — Сгорая от стыда, он утирал обеими рукавами слезы. — Деловое соглашение, я тебе заплачу, — сказал он.
— Нет.
— Это из-за того, что я тебя ударил? Прости меня, я извиняюсь. Я псих куда хуже, чем он, меня запереть надо…
— Дело не в этом.
— Тогда в чем? Мейделе, ну почему? От тебя что, убудет? Помоги старику.
— Вы меня не интересуете, — горестно сказала она. — Я без интереса не могу.
— Понятно. Конечно… — Он посмотрел на Воровского. — Прощай, Хаим, привет тебе от Аристотеля. Человека от зверя отличает умение делать ха-ха-ха. Так что доброго вам утра, дамы и господа. Всего вам доброго. Чтоб тебе жить, Хаим, сто двадцать лет. Главное — здоровье.
На улице был ясный день, чай его согрел. Блестели дорога, тротуары. Дорожки пересекались в неожиданных местах, лязгали сани, торопливо шли люди. Аптека была открыта, и он зашел позвонить Баумцвейгу: набрал номер, но пропустил одну цифру, услышал железный, как бряцание оружия, шум, и пришлось набирать заново.
— Пола, — репетировал он, — я зайду ненадолго, ладно? Например, на завтрак.
Но тут он передумал и решил позвонить по номеру TR 5-2530. На другом конце провода должна была быть либо Роза, либо Лу. Эдельштейн сказал голосу евнуха:
— Я с вами согласен: кое-кому лучше сдохнуть. Фараону, королеве Изабелле, Аману, королю-погромщику Людовику, которого история называет Святым, Гитлеру, Сталину, Насеру…

— Вы еврей? — спросил голос. По выговору вроде южанин, но не негр — может, потому, что обученный, натасканный. — Примите Христа как Спасителя, и обретете возрожденный Иерусалим.
— Он у нас уже есть, — сказал Эдельштейн. Мешиахцайтн! [65]
— Земной Иерусалим неважен. Земля — прах. Царство Б-жие — внутри. Христос освободил человека от иудейской исключительности.
— И кто кого исключил? — спросил Эдельштейн.