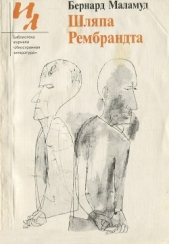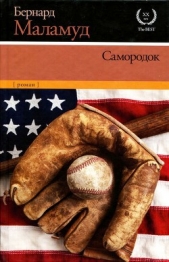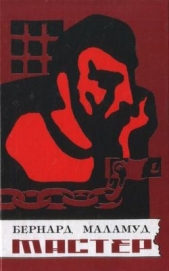Идиоты первыми
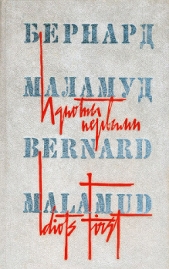
Идиоты первыми читать книгу онлайн
В книге Бернарда Маламуда (1914–1986) изображаются главным образом судьбы еврейских иммигрантов в США. Типичный герой трагифарсовых новелл Маламуда — «маленький человек», неудачник, запутавшийся в грустных и смешных перипетиях современности. Один из самых выдающихся прозаиков послевоенного поколения, Маламуд был удостоен за свои книги рассказов ряда престижных литературных премий, а также Золотой медали Американской академии искусств и литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В госпитале его привели в чувство.
— Я не сопирался умирать, — сказал Оскар, — это пыло неторасумение.
— И никогда об этом не думайте, — сказал я, — нельзя окончательно сдаваться.
— Я не тумаю, — сказал он устало, — потому что к шизни фосфращаться очень трудно.
— Нет, уж вы, пожалуйста… Не надо!
Потом, когда мы шли домой, он меня удивил:
— Может пыть, нам опять попропофать писать лекцию?
Мы поплелись домой, он сел к своему жаркому столу, а я пытался читать, пока он пробовал восстановить первую страницу своей лекции. Писал он, разумеется, по-немецки.
Он ничего не добился. И мы вернулись к пустоте, к молчаливому сиденью в жаркой комнате. Иногда, уже через несколько минут, я срывался и уходил, боясь, что его состояние захлестнет и меня. Как-то после обеда я неохотно подымался по лестнице: иногда во мне вспыхивало раздражение против него, и вдруг испугался — двери Оскара были распахнуты настежь. Я постучал — никто не ответил. Я стоял в дверях, холод полз у меня по спине, и я ловил себя на мысли: а вдруг Оскар опять пытался покончить с собой?
— Оскар? — Я зашел в квартиру, заглянул в обе комнаты, в ванную, его нигде не было.
Я подумал — может быть, он вышел чего-нибудь купить, и, воспользовавшись его отсутствием, торопливо осмотрел всю квартиру. В аптечке ничего страшного не было — никаких таблеток, кроме аспирина, даже йода там не оказалось. Неизвестно почему я подумал про револьвер и выдвинул ящик письменного стола. Там лежало тонкое, как папиросная бумага, авиаписьмо из Германии. Если бы я даже хотел, я не мог бы разобрать почерк, но мне бросилась в глаза одна фраза: «Ich bin dir 27 Jahre treu gewesen» [8]. Револьвера в ящике не было. Я закрыл ящик и больше искать не стал. Я подумал: если захочешь покончить с собой, хватит и простой булавки. Тут вернулся Оскар. Он сказал, что сидел в читальне, но читать не мог.
И снова мы играли все ту же пьесу: подымался занавес, на сцене два безмолвных персонажа, я — на жестком стуле, Оскар — в мягком бархатном кресле, оно его скорее давило, чем нежило, он весь серый, большое серое лицо обвисло, расплылось, словно не в фокусе. Я тянулся к радио, собираясь включить его, он только глядел на меня умоляюще — не надо. Я вставал, хотел уйти, но Оскар, откашлявшись, просил остаться. Я оставался, думая: может быть, за этим есть что-то, чего я не понимаю? Трудностей у него, видит Бог, было немало, но, может быть, тут что-то более серьезное, чем бездомность беженца, отчужденность, денежные затруднения, жизнь в чужой стране, без языка, без друзей? Мои рассуждения шли привычным путем: ведь не все тонут в этом океане, почему же тонет он? И однажды я постарался облечь свои мысли в слова и спросил его: может быть, его мучит что-нибудь подспудное, тайное? Меня в колледже начинили такими идеями, и я спросил, не зависит ли его депрессия от какой-то скрытой причины и не сможет ли психиатр помочь ему избавиться от этого состояния хотя бы настолько, чтобы он мог начать работу над лекцией.
Он обдумал мои слова и потом, запинаясь, сказал, что еще юношей он лечился психоанализом в Вене.
— Обычный Dreck [9],— сказал он, — фсякие страхи, фантазии, потом они меня перестали беспокоить.
— А теперь?
— Нету.
— Вы написали столько статей, столько лекций в своей жизни, — сказал я. — Знаю, в каком вы состоянии, и все же никак не пойму, почему вы застреваете на первой странице?
Он поднял руку:
— Это есть паралич моей фоли. Фея лекция у меня ясно стоит в мозгу, но в ту минуту, как я напишу первое слово — хотя по-немецки, хотя по-английски, меня запирает ужасный страх, что тальше я ни отного слова написать не могу. Как если пы кто-то просил камень в окно — и весь дом, все мысли распиваются совсем. И все пофторяется, и в конце концов я прихожу в отшаяние.
Он еще сказал, что, садясь за работу, он все больше и больше пугался — вдруг он умрет, не закончив лекцию, или напишет ее так скверно, что будет мечтать о смерти. И этот страх парализовал его.
— Я потерял феру. Я уж польше… нет, я уже софсем не могу оценифать себя, как прежде. В моей жизни имелось слишком много заплуждений.
Я пытался сам поверить в свои слова:
— А вы будьте увереннее, тогда это чувство пройдет.
— Уференности у меня нет. За это, как и за фсе, что я потерял, надо плаготарить нацистов.
Была уже середина августа, и во всем мире, куда ни глянь, дела шли все хуже и хуже. Поляки готовились к войне. Оскар почти не выходил. Я был страшно озабочен, хотя делал вид, что погода прекрасная.
Он сидел в своем массивном кресле, дыша, как загнанное животное, глаза у него были совсем больные.
— Кто может писать про Уолта Уитмена в такое страшное фремя?
— Почему вы не возьмете другую тему?
— Нет никакой разницы, одна тема или тругая тема. Все это не имеет пользы.
Я приходил каждый день, просто как друг, запуская другие свои уроки, пренебрегая заработком. Во мне росло паническое предчувствие, что, если так пойдет дальше, Оскар кончит жизнь самоубийством, и у меня было одно безумное желание — предотвратить катастрофу. Более того, я сам иногда пугался, что заразился его меланхолией, — у меня появился, если можно так назвать, талант: находить все меньше удовлетворения в моих маленьких удовольствиях. А жара продолжалась, давящая, беспощадная. Мы думали, не удрать ли в деревню, но ни у меня, ни у него денег не было. Как-то я купил Оскару подержанный вентилятор, — удивительно, как мы не догадались раньше? — и он часами сидел под струей воздуха, пока через неделю, вскоре после заключения советско-германского пакта о ненападении, вентилятор не испортился. По ночам Оскар не спал, сидел у письменного стола, обернув голову мокрым полотенцем, и пытался написать свою лекцию. Он механически исписывал кипы бумаги, но ничего из этого не выходило. Свалившись от изнеможения, он видел дикие, страшные сны — нацисты его пытали, силой принуждали смотреть на трупы тех, кого они убили. Он мне рассказал, что в одном из кошмаров он будто бы вернулся в Германию повидаться с женой. Дома ее не оказалось, и его направили на кладбище. И хотя там на памятнике стояло другое имя, он знал, что это ее кровь сочится сквозь землю из неглубокой могилы. Он громко застонал, вспоминая этот кошмар.
Как-то он рассказал мне про жену. Они встретились еще студентами, сошлись, а потом, в двадцать три года, поженились. Брак был не очень счастливый. Она стала болезненной женщиной, физически неспособной иметь детей.
— Что-то пыло не ф порядке в ее фнутренней структуре, — объяснил он.
И хотя я ничего не спрашивал, Оскар сам сказал:
— Я претлагал ей приехать сюда со мной, но она отказалась.
— По какой причине?
— Она считала, что я не шелаю с ней ехать.
— А вы?
— Не шелал.
Он мне объяснил, что они прожили вместе почти двадцать семь лет в очень сложной обстановке. У нее было двойственное отношение к их еврейским друзьям и к его родным, хотя она как будто была человеком без предрассудков. Зато ее мать всегда была злостной антисемиткой.
— А сепя я не имею в чем упрекать, — сказал Оскар.
Он все больше лежал в постели. Тогда я стал ходить в нью-йоркскую библиотеку. Я прочел в английских переводах тех немецких поэтов, о которых он собирался писать. Потом я прочел «Листья травы» и записал все то, что, по моему мнению, немецкие поэты позаимствовали у Уитмена. И в один из последних дней августа я принес Оскару то, что записал. По большей части это были просто мои домыслы, ведь я вовсе не собирался писать за него лекцию. Он лежал на кровати и слушал с нескрываемой тоской то, что я читал. Потом он сказал, что неверно, будто немцы позаимствовали у Уитмена его любовь к смерти — она всегда была отличительной чертой немецкой литературы, скорее всего они взяли от Уитмена чувство человеческого братства, его большой гуманизм.