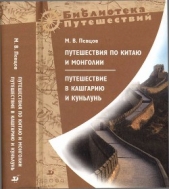Три путешествия
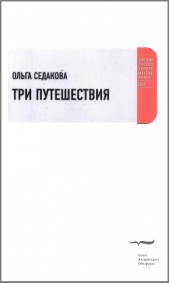
Три путешествия читать книгу онлайн
«Путешествие в Брянск», «Путешествие в Тарту» и «Opus incertum» — это путешествия во Время. Покидая Москву, поэт открывает читателю вид на эпоху. Из провинциального Брянска — на время советских 70-х, из уже «не нашего» Тарту — на Россию 90-х, из Сардинии — на время общей политкорректности и нашего от нее убегания. Как быть со злом своего времени, что с ним делать, как быть с собой? Новое место — это точка зрения, необходимая дистанция, чтобы бескомпромиссно взглянуть назад вглубь, на себя. Тонкая прихотливая выделка письма Ольги Седаковой, ее печаль и юмор позволяют приблизить к глазу драгоценные кристаллы опыта одной человеческой души. Ее фразы незаметно, но настойчиво отмежевываются от привычного построения и течения смысла и в своей магической оптике открывают вид на предметы очень новые для мысли и понимания, завораживающе красивые. Но по сути — все три путешествия, выполненные в форме писем другу, это глубокая апология жалости, это просьба о милости к нам всем, с которой много лет назад началось первое и которой недавно закончилось третье из странствий поэта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Чему учится дворянство? независимости, храбрости, благородству (чести вообще). Не суть ли сии качества природные? Так, но образ жизни может их развить, усилить — или задушить. Нужны ли они в народе так же, как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они sauvegarde трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».
И венец сих качеств — дружба, аристотелевская, томистская дружба, которую в нашем веке знала Ахматова («Души высокая свобода, Что дружбою наречена») и воспел Эзра Паунд («Здесь место дружбы. Здесь земля священна»), вещь, неведомая варварам и рабам. Структурализм созидал дружбу, и это значило не меньше, чем труды эрудиции и эвристический дар.
Но как странно звучит Бах. Как печальна, в конце концов, эта возвышенная задумчивость. Как дым, который стелется по земле. Серьезное и честное размышление обо всем, кроме невозможного. Странно. Кажется, впервые мне так явно слышится, что в Бахе — страшно сказать — нет и не предусмотрено взрыва чуда, что эта звуковая сила движется в замкнутых руслах. Или так: что он проходит вдали: в дали высокой и строгой, но самого близкого, самой сильной и секретной мембраны сердца не касается. Может быть, с такой же далью —
могучей и сумрачной — отеческой — далью остался бы Рильке, если бы он не встретил того, что назвал Россией…
Плачу и рыдаю, вот что касается близи: невозможного, безумного, недозволенного. Житейское море… Человек склоняется над собой, как мать, и плачет по себе, как младенец, не от боли, не от страха, не от горя, а просто от плача, плачет от плача, потому что все плач, все последнее целование и последняя царская почесть, и это чудо как хорошо в конце концов. А може ecu человецы пойдем надгробное рыдание творяще песнь… [6]
Понятно. Все это потому, что нет панихиды. Вот что превратило для меня Баха в сумрак и стелющийся дым — или в сушу, которая не знает прикосновения прибоя. Но почему Рильке? Ах да, «Смерть поэта», о лице и маске:
Юрий Михайлович не знакомил публику с собственными стихотворными опытами; не знаю, существуют ли они. Но теперь, издали, мне кажется, что лицо его было таким, как представлял себе Рильке лицо Поэта:
Не простором природного ландшафта, как у Рильке, но простором истории, человеческого творчества, с его холмами и реками, над которыми тоже звезда с звездою говорит. И этот простор как будто сам тянулся к нему, и в устной и письменной речи Лотмана слышалось, что это они, его герои и собеседники, первыми обратились к нему — и через него к нам — с проснувшейся надеждой быть заново услышанными. Текст, говорил Юрий Михайлович, выбирает себе читателя; можно добавить: выбирает и собирает:
Мы с радостью собрались — и долго слушали.
На кладбище сыновья и ученики кидали лопатами зимнюю землю. Почему-то играл плохой скрипач. Что-то совсем неподходящее, чуть не танцевальное. Гриша смотрел на происходящее из своего буддийского колодца. В его взгляде земля и люди и все, что эти люди делали, переворачивалось и плавало, как в камере невесомости.
Мир! мир! мир! буддийский мир, как океан, держал и качал вещи, готовые вступить между собой в драку, — но волны разносили их и делали всякую встречу невозможной. «Отчаяние, последнее убежище самости», говорят буддисты. Этот бедный шалаш, который многие у нас принимают за неприступную цитадель, или за Фермопилы, которые следует защищать до смерти, даже и зная, что в конце концов победят персы, это утлое и узкое отчаяние давно было снесено неукротимым прибоем: никакого «я» на месте не оказалось, горевать и бунтовать было некому: другое Я, великий Никто, золотой океан, выныривал из вещей, как рыба, плавал в их колодце, как пустая бадья на цепи…
Гриша посмотрел на меня. Да, спасибо, все хорошо, у него теперь есть гуру, и он занимается медитацией.
— А вы еще сочиняете ваши стихи? — спросил он меня.
— Больше прозу.
— Хорошо. Все хорошо. Правда? — сказал Гриша.
Тишина кончилась. Вспыхнули разговоры, там, здесь, шепотом, вполголоса, на обратном пути уже в полный голос.
Прощай, Тарту, версиловская Европа нашей юности, священные камни, иной мир. Теперь ты наконец совсем иной. Следы советской жизни исчезают с улиц, как будто дом прибирают после долгого и безобразного дебоша. Без нас тут будет хорошо. А без Юрия Михайловича? Здесь жил Мартин Лютер, здесь братья Гримм.
Кстати, о Европе. Заблудившись в Веймаре, я случайно и напоследок увидела в переулке табличку: «Здесь жил Эккерман». Почему-то я очень люблю Эккермана и была так рада, будто это он сам решил мне кивнуть из окна на прощание. Спасибо Вам, господин Эккерман! Сидя за столиком на виа Мерулана в ресторанчике «Дом Мецената», я обернулась и вдруг поняла, что древняя хижина рядом и есть настоящий дом Мецената. Мецената я тоже люблю: Гораций не хотел его пережить. Спасибо тебе, Меценат. Прощайте, служители свободного искусства. Прощайте, его покровители. Прощайте, Орест и Пилад и Бог Нахтигаль. У нас таких нет и не будет. Клочок вашего вольного простора возвращается в родную стихию из номадского плена. Прощай, старая Европа.
Анн Мальц вернули наследственный хутор, и она собирается уехать, попробовать новую старинную жизнь. На широких холмах парка с латинскими стелами, над темной рекой, чье имя трудно запомнить, на университетской площади, где я впервые в жизни увидела, что ложные окна бывают не только в истории архитектуры и в стихах Блока («Окна ложные на небе черном»), на опрятных улицах среди не по-русски сдержанных людей больше не появится Юрий Михайлович.
И нам здесь появляться как будто больше незачем.
На ночь после поминок нас приютила Тамара Павловна, которой с этих страниц я шлю мой низкий поклон и сердечное почтение.
Как в «Синей Птице» Метерлинка Бабушка и Дедушка просыпаются и живут, когда их кто-нибудь вспоминает, так, мне казалось, просыпается и живет Блок, когда на его стихи глядят глаза Тамары Павловны, крылатые, как в гимназической юности. В глазах любого читателя кто-то, создавший эти строки, живет, — но кто этот кто-то? Блок живет в крылатых глазах; в других это будет не он. Мы остались среди других глаз.
И самыми пугающими среди них мне кажутся глаза нового благочестия, светлые и сладкие, как приворотное зелье. Такие присушки варят олонецкие колдуны из болотного мха, щепок и лягушачьей кожи на меду. Радиактивный елей, мертвая зона. Смирись, гордый человек. Ну, говорю, смирись! — Это зелье покрепче комсомольского.
Что случается с Александром Александровичем Блоком в этих глазах, все знают. Что случится в них с Тамарой Павловной, внучкой православного батюшки, расстрелянного красными в 19-м году, вдовой Ивана Лаговского, убитого НКВД в 41-м году, сотрудницей матери Марии, отбывшей за это свои сроки, а теперь справляющей Рождество по новому стилю, «чтобы вместе со всеми»… Как они посмотрят на ее книгу…
Иногда мне жаль, что я не сумасшедшая, а главное, что нет у меня об этом справки с печатью. Тогда, со справкой, я бы не церемонилась, тогда я бы сказала им все, что думаю: Вы ошиблись дверью! Вам не сюда! И не шарьте глазами по углам, не высматривайте: ничего вашего тут нет. Идите к своему преподобному Нилусу, идите, не забудьте свои шпаргалки «В помощь кающемуся». Напугался сам, напугай товарища. Почему вы решили, что это делают здесь?