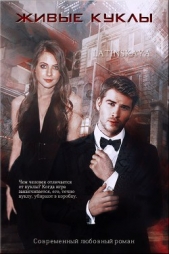Генеральша и её куклы
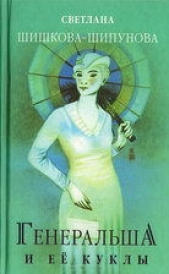
Генеральша и её куклы читать книгу онлайн
Перед нами необычное произведение - исповедальная женская проза.
Всё смешалось в доме генерала. В его семье всё складывалось удачно - карьера неизменно шла в гору, идеальная жена была надёжным другом и помощником. И вдруг она исчезает из роскошного трёхэтажного особняка на берегу моря... Похищение? Несчастный случай? Супружеская измена?
Эту историю мы увидим глазами его жены. Почти детективная история оборачивается психологической драмой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды мы с Любой Даниленко сами нашли и разучили на два голоса стихотворение Евгения Евтушенко:
Люба читала как бы за автора («Почему вы не спите, сеньора Амелиа?..»), а я – как бы за крестьянку («И она отвечает: его звали Пабло…»). Пока репетировали дома, у нас очень неплохо получалось. Но когда мы вышли с этим стихотворением на очередном школьном вечере, случился конфуз. Люба была в костюме под «барбудос»: узкие чёрные брючки, белая мужская рубашка, шейный платок и берет, я – в длинном балахоне и шали, покрывавшей голову и плечи. Люба стояла ближе к краю сцены, а я – в глубине. И вот из этой глубины я произношу загробным голосом: «Когда я ещё молодая была…» (а мне лет 12), и сидящие в зале старшеклассники начинают тихо ржать. Когда же я дохожу до слов: «Мой муж в ручищи свои неумелые брал несмышленное наше дитя» и при этом ещё театрально протягиваю вверх руки, ржёт уже весь зал. Ну, и всё, меня перемкнуло. Замолчала и стою, как статуя в балахоне. Никогда раньше такого со мной не бывало, а тут – забыла слова, и всё. В зале сначала не поняли, что за пауза, потом ещё громче стали смеяться. Люба повернулась ко мне и шепчет мой текст, а я не слышу. Кончилось тем, что мы с позором ушли со сцены, я рыдала на груди у старшей пионервожатой и говорила, что больше никогда это стихотворение читать не буду. Но то было время всеобщего увлечения кубинской революцией, и наше стихотворение (вернее, стихотворение Евтушенко) было очень кстати, так что нам велели подучить слова и послали сначала на районный, а потом и на городской конкурс чтецов, где мы с Любой даже получили один на двоих диплом лауреатов.
Выступать со сцены мне нравилось, и, как многие девочки в этом возрасте, втайне я мечтала, когда вырасту, сниматься в кино, а пока собирала фотографии артистов. Они продавались в каждом киоске – твёрдые, как открытки, черно–белые, с волнистыми краями. У меня был большой оранжевый альбом, куда я вставляла эти фотографии–открытки, без конца их перекладывая в зависимости от новых приобретений. Я составляла из них «пары», помещая на одну страницу Баталова с Татьяной Самойловой, Урбанского с Ниной Дробышевой, Тихонова с Майей Менглет… Мы любили рассматривать эти альбомы, обсуждая, кто красивее и кто кому больше «подходит». Самой красивой считалась у нас Изольда Извицкая, за неё при обмене надо было отдать, как минимум, двоих, например, Конюхову и Румянцеву. И все девочки были влюблены в Олега Стриженова. Мне тоже нравился красавец Артур–Риварес из «Овода», но если бы я могла влюбляться в актёров кино (этого со мной почему‑то никогда не случалось), я скорее выбрала бы Василия Ливанова из фильма «Коллеги».
Мне казалось тогда, что сама я немного похожа на актрису Людмилу Марченко, какой она была в «Белых ночах», и что я могла бы играть роли таких же тихих, задумчивых и робких девушек, очень это соответствовало моему тогдашнему самоощущению.
Но уже классу к шестому идти в артистки я окончательно раздумала, потому что чем старше, тем стеснительней становилась, чуть что – краснела, и ни в чём не была уверена – ни в подходящей для кино внешности (артистка ведь должна красиво улыбаться, а я, когда смеюсь, прикрываю рот ладошкой), ни в наличии настоящего таланта: ну что такое роль бабочки – так, художественная самодеятельность.
Вдруг проклюнулись другие способности – к рисованию. И с этого момента всё, что я видела вокруг себя, всё, что переживала, воображала, о чём думала, мне хотелось изобразить на бумаге – карандашом, пером, кисточкой, обмакнутой в акварель или гуашь, цветными чернилами в тетрадке… Вообще, с бумагой у меня были особые отношения. Во–первых, в очень раннем, малосознательном детстве я ее… ела. Да, представь себе, ела, как другие едят мел или грызут карандаши. Отрывала маленький кусочек от газеты или от бабушкиного перекидного календаря и жевала, жевала, жевала, пока бумажный катышек не превращался в мягкую кашицу, тогда я её проглатывала и искала, от чего бы ещё оторвать. Возможно, в моём организме чего‑то не хватало. Став старше, я осознала, что так делать нехорошо (то есть не есть бумагу нехорошо, а портить календари и тем более книжки) и – перестала. Разве что так, надкушу иногда от чего не жалко и быстренько проглочу, пока никто не увидел. Во–вторых, я обожала вид и запах новых книг и тетрадей, я их… нюхала, и запах бумаги и оттиснутого на ней шрифта казался мне самым прекрасным на свете. Именно поэтому я так любила начало нового учебного года, когда все учебники и тетрадки – новенькие, пахнущие бумагой, краской и клеем, и так приятно начинать писать с чистого листа, выводя ровные, красивые буквы…
Бумага манила, дразнила и соблазняла меня. Не могла я спокойно видеть пустой чистый лист, тут же должна была что‑нибудь на нём изобразить – написать или нарисовать, если не слово, то хотя бы отдельные буквы – объёмные, оттенённые, витиеватые, геометрически строгие – какие там ещё? А если не буквы, не слова, то – цветы, листья, деревья, личико кукольное…
Но в художественной школе мой любимый урок был не рисунок (гипсовая голова Давида давалась мне с трудом) и не живопись (преподаватель говорил, что в работе с красками мне немножко не хватает смелости, размашистости), а – жанровая композиция. В композиции главное – собственная фантазия, а её‑то у меня как раз хватало. Однажды на уроке искусствоведения говорили о великих художниках. Я удивилась: почему все они – мужчины. Разве не было за всю историю искусства хотя бы одной великой художницы? Преподавательница подумала и сказала: нет, не было.
— Почему?
Она развела руками.
— Не бабское это дело! – загоготали мальчики, имевшие в нашем классе, да и во всей «художке» безусловное численное преимущество.
Меня это удивило, но не расстроило. Всё равно я буду художником. Может, стану рисовать мультики (параллельно я хожу в студию мультипликации при городском Дворце пионеров), а может, буду иллюстрировать книги, например, сказки. Одна моя жанровая работа – иллюстрация к пушкинскому царю Дадону – даже висит на выставке в коридоре «художки». Шамаханская царица на ней зелёного цвета, как лягушка.
Сказки я люблю. В детстве мне пришлось прочесть уйму самых разных сказок, но как‑то всё не себе, а младшим сёстрам. Я усаживалась на «порожек» нашей квартиры в одноэтажном коммунальном бараке, сестры и другие девочки нашего двора – вокруг, и я спрашивала:
— Ну, какую читать?
— Про Снежную королеву!.. Нет, про Василису Прекрасную!.. Нет, давайте лучше про Спящую красавицу!.. — суетились девочки.
Любимыми нашими персонажами были, конечно, всевозможные царевны и принцессы, начиная с Золушки и кончая Царевной–Лягушкой. Самое замечательное в них было – превращение. Из Золушки в Принцессу, из Лягушки в Царевну, из Спящей красавицы – в ожившую… Главное тут было – ожидание чуда и уверенность в том, что в конце сказки оно непременно произойдёт. И казалось, что так же и в жизни устроено и что каждой девочке полагается своя порция чуда, надо только слушаться старших, хорошо себя вести и хорошо кушать, тогда все мы вырастем большими, станем красавицами и встретим каждая своего принца.
Летом, на каникулах, меня отправляли в гости к тёте с дядей, которые жили уже не в Грузии, а на Западной Украине, в городе Ужгороде. В кабинете у дяди стоял книжный шкаф, набитый книгами, и в этой же комнате, на диване я спала. Мне нравилось открывать стеклянные дверцы шкафа, вдыхать пыльный запах книг и долго разглядывать корешки, решая, какую взять. Там были «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», впервые прочитав которые, я наконец обнаружила источник дядиных шуток – он просто цитировал Ильфа и Петрова; «другой» Толстой («Гиперболоид инженера Гарина»), совсем незнакомый Александр Беляев – «Голова профессора Доуэля» и ещё масса увлекательного чтения. Выбрав, я ложилась на диван и проводила на нём целые дни, не отрываясь от книжки. Тётя ругала меня, говоря, что, во–первых, лёжа читать нельзя – глаза испортишь, а во–вторых, на дворе – лето, и лучше бы я шла подышать воздухом.