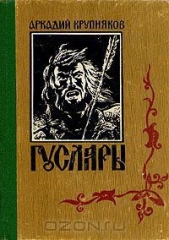Большой марш (сборник)

Большой марш (сборник) читать книгу онлайн
В книгу известного воронежского писателя Юрия Гончарова вошли рассказы, в большинстве которых запечатлена биография поколения, чья юность пришлась на время Великой Отечественной войны. Художнический почерк писателя отличает реалистически точная манера письма, глубина и достоверность образов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Нет уж! – обрезала она, отбрасывая всякую возможность обсуждать с нею этот вопрос. – Мне уже двадцать пять, чего еще тянуть – пока совсем старухой стану?
Все уже было бесповоротно решено ею одной.
Это был первый случай, когда она говорила с ним так резко. Дальше это стало повторяться все чаще и чаще. Она быстро стала жесткой, грубой, то есть – самою собой, какой она была, какой сформировалась в своей семье.
Постепенно, но тоже скоро, Климов увидел, что его квартира полностью принадлежит ей, он уже не имеет в ней главенствующего положения, властительница и распорядитель – она, а он только работник на семью, снабженец деньгами и всем, что требуется.
Спасала служба. Уходил рано, зимой – еще в потемках, возвращался поздно, вымотанный, ни на что не оставалось сил, только бегло просмотреть газету, поиграть немного с Лерой, если она еще не в кроватке, – и в сон. В дни отдыха отсыпался до полудня, ладил что-нибудь в сарае, гулял с Лерой в детском парке, катал ее на карусели; она очень любила парк и любила кататься, на всех фигурках по очереди: на лошадке, на слонике, на верблюжонке; отвечал на ее бесконечные «почему», они из нее так и сыпались, жена от них раздражалась, а он не уставал, отвечал часами. С оживлением и радостью встречал знакомых, если они приходили, – они разряжали семейную атмосферу, напряжение, которое постоянно присутствовало в домашних стенах. И еще помогал телевизор: можно было уткнуться в экран и ни о чем не разговаривать с Валентиной целый вечер, – как в кино, где не общаются с соседями по креслу.
В Гостехнадзоре, куда его пригласили в отдел по наблюдению за безопасностью промышленных котельных установок и теплотрасс, не было другого человека, который бы так охотно ездил в командировки. Поводов для них имелось достаточно: непрерывно то в одном, то в другом месте области наступали сроки ревизорских проверок, технического освидетельствования или вводились в строй новые объекты и требовалось наблюдать за монтажом, проверять техподготовку персонала, участвовать в приемочных комиссиях, оформлять дефектные и приемочные акты. Уезжал Климов всегда с двойным чувством: облегчения, что отрывается от дома, в котором нет для него тепла, радости, уюта, и сожаления, что расстается с дочуркой; любовь его к ней все росла, становясь совсем самозабвенной.
Из-за нее, из-за этой полностью его подчинившей любви к маленькой Валерушке, Лере, он и нес свой крест, смирял свои обиды, порою нестерпимо острое желание покончить, разорвать с Валентиной. Обманывая себя, успокаивая, внушал себе, что такой вообще стала жизнь, у большинства теперь так: кто из молодых семейных людей может похвастать, если начистоту, что в доме не бывает ссор? Какая семья живет без размолвок? Поколение родителей умело жить иначе, сердечней, теплей, бережней относились друг к другу; иные были времена, порядки, на иных основах строились семьи… Но вообще же это только в сказках между супругами сплошной медовый месяц – мир, гладь, совет да любовь…
Зарплаты его не хватало, особенно когда подросла Лера, превратилась в симпатичную, стройную девушку, поступила в институт. Языки ей давались, английский и французский она освоила настолько, что на последних курсах ее приглашали переводчицей для иностранных специалистов, посещавших местные заводы. Она страдала, что недостаточно модно для этого одета. Климов стал брать дополнительную работу на дом – расчеты к техническим проектам. Сидел над ними допоздна, утром ехал на службу с красными глазами, тупой тяжестью в голове. Зато это приносило лишних пятьдесят, семьдесят рублей, иногда даже сто. Как и зарплату, эти деньги он полностью отдавал жене. Валентина Игнатьевна брала без благодарности: мало, что это за деньги, что с ними сделаешь! Климов, конфузясь, успокаивал ее обещаниями, что в следующий раз постарается заработать больше. Понимал – правильней, по-мужски, вскипеть, возмутиться, что сверхсильный его труд принимается так сухо, только что без упрека вслух. Но годы уже что-то сделали с ним: уставший от вечного недовольства всем, что он делает, думает, говорит, он все более внутренне сжимался перед Валентиной Игнатьевной и вместо бунта в самом деле, к своему удивлению, от ее кислого лица растерянно чувствовал в себе какую-то действительную виноватость, что не может дать больше, столько, сколько удовлетворило и даже порадовало бы Валентину Игнатьевну…
3
Работу Климов стал искать со следующего же дня. У него уже было кое-что на примете, не оставляли его без помощи друзья, сослуживцы, – звонили, советовали, куда наведаться. Климов набирал указанные телефонные номера, в другие места заходил сам. Работу предлагали, но везде она была с ночными сменами, сверхурочными часами. Климову это никак не подходило, он знал, что такую работу ему уже не вытянуть, для нее нет уже у него здоровья. На второй неделе его поисков позвонил один из знакомых и, захлебываясь, что может обрадовать Климова, торопливо прокричал в трубку:
– Слушай, ты еще не устроился? Очень хорошо! Слушай, поезжай… – он назвал один из новых заводов на Левом берегу. – Там как раз нужен инженер твоего профиля. Условия – блеск! Иди прямо к кадровику, я уже говорил с ним, рекомендовал тебя, он ждет. Сегодня уже не успеешь, а завтра езжай прямо к началу, с утра, понял? Им человек позарез нужен, промедлишь, и место это уплывет…
Утром, еще до начала работы, Климов был уже у дверей заводского административного здания. Кадровик действительно его ждал, сразу же принял. Пожилой, сильно лысый, с рядами разноцветных планок на левой стороне пиджака. Отставник, которому или скучно на пенсии, или нужен приработок. В отделах кадров такие встречаются часто.
Долго и въедливо выспрашивал он Климова о прежней его работе, вчитывался в диплом, в трудовую книжку, анкету, старые характеристики. Возвратившись к какой-нибудь анкетной детали, начинал расспрашивать снова, как будто что-то недопонял или недослышал в первый раз. Как и ожидал Климов, факт увольнения заметно насторожил кадровика. Все выспросив, он минут пять углубленно обдумывал что-то про себя, сокрушенно, со вздохом, покачивал головой, опустив взгляд на последнюю запись в трудовой книжке, даже как-то переживая за Климова.
– Должности вы соответствуете… Но вот это… – постучал он карандашом по последним строчкам. – Поговорите-ка с замом директора. Или еще лучше – с самим директором. Он строговатый, кое в чем формалист, но, думаю, к вам он должен отнестись с пониманием…
Отставник еще раз поглядел на запись об увольнении, опять сокрушенно качнул своей массивной круглой лысой головой:
– Что ж это они так с вами, неужели нельзя было «по собственному желанию» написать?
– Спасибо, вы правы, конечно, при таких обстоятельствах без директора не обойтись… – сказал Климов, забирая документы.
Но к директору не пошел. У него в запасе был еще один адрес, но он не пошел и туда. Долго бродил без цели по городу, забрел в один из городских садов, сел на теплую скамеечку в зеленой шелушащейся краске, наполовину еще погруженную в недотаявший сугроб. Вокруг сверкали весенним солнцем лужи, пласты серого, ноздреватого снега. Этот сад находился на половине пути между домом, в котором Климов жил до войны, и школой, в которой он учился, и тогда, в те свои детские школьные годы, Климов бывал здесь каждый день, ноги сами заносили его сюда на возвратном пути домой. Сад был не обширный, но тенистый, что-то даже таинственное было в некоторых его заросших уголках, совсем безлюдный днем, полный птиц, их порхания и щебета. Здесь всегда было интересно, как-то ново каждый раз, на газонах, в траве между деревьями Климов замечал новые цветы, новых бабочек и жуков, все время менялась листва парка, густела, тяжелела, становилась почти черной в тенях; в первых числах июля зацветали липы, в аллеях становилось душно от их медового запаха, на каждом цветке копошилась пчела, их слеталось сюда несметное множество, неизвестно откуда, из частных, вероятно, дворов: в довоенном городе было много личных усадеб, особенно на улицах, спускавшихся к реке, обязательно с цветниками и садочками, хотя бы в два-три вишневых дерева, и почти все хозяева держали пчел. На дощатой сцене с фанерной раковиной перед пустыми скамейками для зрителей иногда репетировали какие-нибудь самодеятельные музыканты – балалаечники, гитаристы, а то и целый оркестр, целый концертный коллектив с певцами и плясунами, и можно было сидеть, смотреть, слушать, сколько угодно, пока не надоедало, никто не прогонял. Здесь, на одной из скамеечек в затененном укромном углу, Климов впервые попробовал вкус папиросы: на деньги, данные матерью на школьный завтрак, купил пачку «Ракеты», были такие до войны самые дешевые и самые скверные папиросы, и закурил, – так тянуло испытать самому, что же это такое – табачный дым, какая в нем прелесть, почему так любят курить взрослые? Он сделал ровно две затяжки, короткую и поглубже, поперхнулся и долго, со слезами на глазах, кашлял. И потом больше не курил, до самой армии, фронта, до желто-зеленой махорки, что ротные старшины выдавали по горсти на солдата…