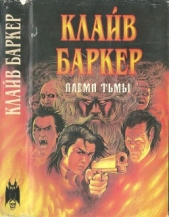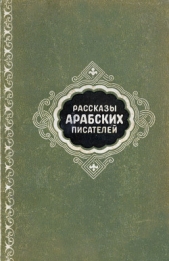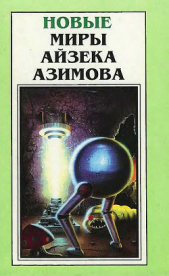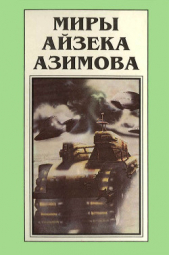Современный египетский рассказ
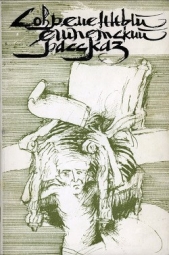
Современный египетский рассказ читать книгу онлайн
Антологический сборник современного египетского рассказа включает в основном произведения 60–70-х годов нашего века. Целью составителя было показать египетский рассказ в динамике его развития. Поэтому в сборник вошли произведения начинающих свой путь в литературе талантливых новеллистов, отражающие новые искания молодого поколения писателей Египта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А теперь они оба напряженно ожидали третьего вопля, и муж уверял, что это ни в коем случае не повторится, а жена кричала, что повторится неминуемо.
Вдруг из кухни — именно оттуда, на этот раз сомнений быть не могло — донесся крик, напоминающий отчаянное мяуканье кошки. Казалось, его пытались сдержать, но он прорывался, несмотря на все напряжение воли. Видимо, человек решил собрать все силы и молчать, чего бы это ни стоило. То был мучительный, болезненный, жалобный, плачущий, отчаянный, взывающий о помощи крик: «А, а-а-а, а-а, а!» — короткие и длинные, протяжные и отрывистые, невероятно высокие и низкие, заглушаемые усилием воли, кровоточащие, жгучие, как огонь, как йод, заливающий свежую рану, звуки.
Жена раскрыла рот в ужасе, оттого что слова ее подтвердились. Она только и ждала, чтобы крик оборвался, готовая закричать сама. Но крик не утихал, и она невольно начала вслушиваться. Рот ее все еще был разинут. Содрогаясь, она прильнула к мужу, вцепилась в его руку, чтобы успокоиться. И в тот самый миг, когда она совсем уже собралась закричать, давая выход своему ужасу, тот крик внезапно смолк, как будто сломался какой-то аппарат, его издававший.
Наступила нерушимая тишина, которая была подобна чудодейственному, целительному бальзаму. Если бы тишина не наступила в этот самый миг и не была бы такой нерушимой, можно было бы сойти с ума.
После долгого молчания жена сказала:
— Вот видишь, Хадиди!
А он едва слышным шепотом ответил:
— Умоляю тебя, Афат, умоляю…
Но она не вняла его мольбе. Тихо, но настойчиво прошипела ему в ухо:
— Я хочу только знать… Прошу, не своди меня с ума… Я хочу знать, почему ты не устроил его в гостиницу? Почему не оставил его у родных? Зачем ты сделал это? Зачем? Чтобы свести меня с ума?
Как объяснить ей, если он и сам не знает, зачем сделал это.
…Он давным-давно все для себя решил и совершенно перестал помогать жителям Зинина. Перестал устраивать их на работу, вмешиваться в их дела. Ведь земляки его таковы, что стоит одному выйти в люди, как все набрасываются на него и начинают тянуть вниз, в трясину своих забот. А уж заботы эти, ох! Даже если бы он бросил все и занимался только ими, ему и тогда не хватило бы жизни. Ведь у каждого свое дело, важное, насущное, требующее безотлагательного решения. А в Зинине сто тысяч жителей и, стало быть, сто тысяч дел. Поэтому он твердо и категорически решил жить сам по себе, тревожиться только о своих заботах и делах, отшвырнув прочь эти бесчисленные руки, норовящие увлечь его вниз, в массу обывателей, словно для них невыносим вид человека, поднявшегося выше, и они не успокоятся до тех пор, пока он не упадет, подобно им, на колени и не признает свое бессилие.
Но около полудня секретарь доложил, что пришли родственники Фахми, отец и дядя, и хотят видеть его. В своей жизни он знал только одного Фахми. Это был первый и, возможно, последний из знакомых ему людей, которого аль-Хадиди признавал умнее себя. Еще в школе, когда Фахми вставал, чтобы ответить на вопрос, на который никто в классе не мог ответить, аль-Хадиди всем корпусом поворачивался к нему и пристально смотрел в его бледное, костлявое и в то же время обаятельное лицо, выражавшее ум и незаурядные внутренние качества. Он прислушивался к каждому слову. Ему нравилась даже манера Фахми произносить слова. Причем слова эти были поразительно точны, каждое слово выражало мысль с такой четкостью, какая другим ученикам и не снилась. А Фахми находил их легко и без малейших усилий там, в классе с облупленными стенами, где сквозь краску проглядывала растрескавшаяся глина. В классе, где висела маленькая ветхая доска чуть побольше грифельной, где сидели десятки учеников в шерстяных или бумажных такиях [20], в башмаках, уже стоптанных их старшими братьями или отцами, с сумками, которые матери сшили из остатков ткани, купленной на галабеи. В те давно минувшие дни аль-Хадиди стоял на пороге знания, учился грамоте, начинал с азов. Фахми был тогда его другом и его кумиром. Неужели это его родные ожидают теперь в приемной?
Он приказал их впустить.
Вошли трое, или нет, четверо, все, как один, маленького роста. Четвертый почему-то скорчился в три погибели. Аль-Хадиди внимательно разглядывал их. Черты Фахми неизгладимо запечатлелись в его памяти. Он все смотрел, пытаясь угадать, кто же отец Фахми или его дядя. Но лица были ему незнакомы и даже не напоминали никого из жителей Зинина.
— Где же Фахми?
В смущении все наперебой стали отвечать, указывая при этом на четвертого, скорченного человека.
— Вот…
— Вот же он, Хадиди-бей.
— Так это ты?
— Да, бей, это он…
Человек поднял голову и взглянул на аль-Хадиди, но не выпрямил согнутую спину. Аль-Хадиди долго всматривался в него, словно хотел отыскать иголку в стоге сена: он пытался уловить в нем хоть какое-то подобие друга детства, который некогда был ему столь дорог.
— Ты Фахми?
— Да… это он, эфенди.
Лицо у него было, как у мумии, которую только что извлекли из гробницы или же, наоборот, собираются туда положить. Застывшее выражение боли придавало чертам неподвижность.
— Ты Фахми-козокрад?
— Он самый, бей… Вы с ним вместе учились в школе… Только ваша милость изволили запамятовать.
Возможно ли это? Аккуратный, чистенький мальчик с лицом, отмеченным печатью одаренности, с глазами, в которых светились ум, проницательность и редкостная способность все схватывать на лету, и этот человек, который выглядит дряхлым стариком, лицо землистое, глаза потухли… Узкие, как щелки, они мерцали, словно фитилек лампы, в которой кончается керосин.
Аль-Хадиди был оглушен. Его никогда не покидала уверенность, что рано или поздно ему суждено встретиться с Фахми, и мысленно он готовил себя к этой знаменательной встрече. Он испытывал перед Фахми некоторую робость, но во многом это объяснялось его убеждением в том, что Фахми навсегда останется выше и его, и всех остальных. Если уж мальчишкой он был первым, то будет первым и юношей и мужчиной. Но ему никогда не приходило в голову, что встреча произойдет при подобных обстоятельствах и мальчик, сохранившийся в его памяти, превратится в этого жалкого человека. Думая о встрече с Фахми, он готовился многое ему сказать. Он хотел сказать, что если он стал профессором, доктором аль-Хадиди, известнейшим на Востоке знатоком органической химии, председателем правления крупной фирмы, что если его не раз выдвигали в министры и избрали членом десятков научных комитетов и организаций на Востоке и на Западе, то в этом немалая заслуга Фахми. Образ его более тридцати лет подогревал честолюбие аль-Хадиди, побуждал его идти напролом, чтобы хоть раз превзойти талантливого мальчика, чьи черты хранились в его памяти, словно нетленный лик святого. И вот она, эта встреча. Вот — этот святой.
— Ты Фахми-козокрад?
— Да, бей…
— А помнишь козу?
— Какую козу, бей?
Эту козу Фахми украл, чтобы купить для Хусейна Абу Махмуда, отца шепелявого Мансура, лекарство за пятьдесят пиастров, которое, как говорили, одно могло спасти ему жизнь. Ведь Фахми, кроме всего прочего, обладал благородством души. Он, не задумываясь, готов был идти пешком в соседний город, или не спать всю ночь напролет, или работать целый день в поле, если знал, что кто-то в этом нуждается. Все были страшно поражены, когда он украл козу. И хотя потом, когда выяснилось, в чем дело, его простили, все равно прозвище осталось, заменив постепенно его настоящее имя.
— Рад вас видеть… Чем могу служить?
Ясно, что они, как и сотни других, надеялись, что он, используя свое влияние и престиж, сотворит чудо. Фахми, разумеется, болен, и они хотят положить его в больницу.
Он пытался заговорить с самим Фахми, расспросить его о болезни, но тот сидел, скорчившись, не поднимая головы, и, казалось, не слышал ни единого слова. Его отец и дядя неловко просили извинения, объясняли, что с ним это уже давно, что он, бывает, целыми днями молчит, как немой. Но он не свихнулся, болезнь у него не душевная, она в мочевом пузыре. Из их слов аль-Хадиди понял, что это, вероятно, бильгарциоз, перешедший в рак мочевого пузыря. Они обошли всех докторов и все лечебницы в округе, обращались к цирюльникам, к бедуинам, которые лечат прижиганием и иглоукалыванием. Наконец в главной больнице провинции им сказали, что операцию делать бесполезно и лечить нужно рентгеном в Каире… И вот, сказали они, мы пришли к тебе, бей, да хранит Аллах твоих деток, и пошлет он тебе здоровья.