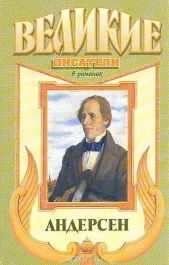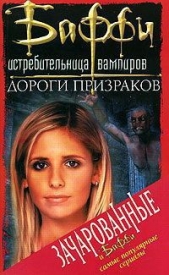Новый Мир ( № 3 2011)
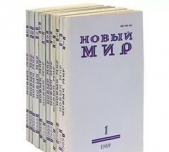
Новый Мир ( № 3 2011) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А раз ты поэт, раз пишешь стихи о спорте, викингах и молодогвардейцах, то — уж не обессудь — живи так, как живут поэты: закатив глаза вовнутрь, беседуй с птичками и полевыми цветами, разглядывай по ночам звёзды, восхищайся нами и нашими подвигами и свершениями, ешь свою манную кашу с солёными огурцами, но главное — будь немеркантилен и думать забудь о деньгах.
Чем больше, плотнее мне вспоминаются подробности того судилища — а ведь это я его начал, придумал: помните, Нюрнберг, безапелляционный суд? — тем сильнее моя уверенность, что меня, как Мерсо, судили не за мой реальный и действительно гадкий поступок, не за мои свинство и подлость, а совсем за другое — за поэта, и все обвинения — сначала пионервожатых, потом ошарашенных, но быстро справившихся со своей растерянностью моих пионерских друзей, ведь я — земной, простой, грешный, товарищ по чемпионатам в карманный бильярд — был для них гораздо меньшим небожителем, чем для Нашей Маши и её коллег, — прозвучали не в адрес Андрея Краснящих — тринадцатилетнего мальчика, не подумавшего о том, что мама Валика может лежать в больнице с инфарктом, а отец — каждый день пороть его как сидорову козу за проступок и понесерьёзнее воровства, и вообще — что весь этот механизм подсчёта ущерба сильно отдаёт крохоборством и в нём отчётливо видна жажда наживы, — а в адрес какого-то там большого и маститого поэта, вдруг показавшего себя — всем — маленьким, исполненным низменных страстей, и прежде всего — страсти денег и страсти мести, человеком. А значит — суд шёл со стороны рухнувших веры в меня и надежды, самых светлых идеалов и самых горьких разочарований и назывался он Судом Лживой Правды над Правдивой Ложью. И если уж на то пошло, если все карты на стол и разговор начистоту, то они — и маленькие, и, в большей степени, большие — судили в моём лице самих себя. За самообман. А я — что я? — я бы судил себя иначе, по-другому, и, наверное, этот суд тоже состоялся, только без обвинителей, адвокатов и без свидетелей, ведь с тех пор — а прошло уже много, много времени — я стихов не пишу и писать не буду.
И ещё один вопрос в конце этой истории, который почему-то не прозвучал тогда, на моём — без никого, только звёзды — суде: скажи мне, Валик, скажи мне, мой маленький друг, кто из нас тогда был липовым богом, самым настоящим, а не придуманным липовым богом — ты или я? Я ведь знаю ответ и знаю, что ты его знаешь.
Деньги — бесконечная тема, они, если правильно к ним относиться, могут стать для тебя мерилом всего: чувств, людей, хорошего, плохого, радостей и печалей, — но когда-то и ей следует закончиться и, передохнув, смазать другим чувством, другой интонацией усталые шестерёнки сюжета и перейти, влиться в другую, какую — никому не известно, что выбросит из себя память, — тему, поэтому и я оставлю без развития все новые и уже крутящиеся в голове истории, связанные с деньгами и их местом в моей жизни, жизни человека: и эпопею с пустыми бутылками, и то, как я в 1989 году был первым, кто откликнулся на призыв аятоллы Хомейни покарать за миллион долларов презренного Салмана Рушди, и многое другое, даже обещанное где-то ещё в начале Великое Отрицалово Денег, — хорошо, когда твой рассказ заканчивается вовремя, не успев надоесть ни тебе самому, ни читателю и оставляя ощущение лёгкого голода для последующих глав, — но с тобой, липовый бог, я не прощаюсь, и знаешь, мне всё больше и больше кажется, я всё сильнее и сильнее уверен, что ты никакой не липовый, а самый что ни на есть настоящий, ведь другого — ты понимаешь, о чём я говорю, — у меня никогда и не было. Dixi.
О моей Полтаве и Харькове
Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю.
Лев Толстой
В детстве я — гражданин Харькова — много и подолгу, всё лето, январь зимы и апрель весны, жил в Полтаве. От Харькова до Полтавы сто сорок четыре километра: пешком очень далеко, не стоит и пытаться, на автобусе — часа три, две остановки, в Валках и Чутове. Харьков — индустриальный центр, Полтава — нет; в Харькове — полтора миллиона жителей, в Полтаве — в пять раз меньше. Харьков — русский, стеснялся своей украинскости, Полтава — бесстыжая, любимая, первая женщина, никого не стеснялась и ничего не скрывала: на — смотри, бери, целуй.
Сто сорок четыре километра. На границе Харьковской и Полтавской областей, в Коломаке, там ещё знак такой стоит — олень с рогами или что-то вроде него, наступал конец времён — автобус пролетал его и границу без остановки, одетые не совсем по уставу вороны только досадливо крякали и дальше смотрели вслед уже без угрозы.
Харьков — надо знать — всегда любил только самого себя и Россию. В школе того, кто хотел или приносил справку, что болен (а это одно и то же), освобождали от изучения украинского языка и его литературы. От физкультуры и труда (в узком смысле этого слова — трудового воспитания) освобождали не всегда, для них требовались справки с печатями и подписями. В моём аттестате (зрелости? — ну, пускай будет — зрелости) так и написано: “...и обнаружил при примерном поведении и примерном прилежании к учению и общественно полезному труду следующие знания: по украинскому языку — не изучался, по украинской литературе — не изучалась...”
В университете всё было факультативно, но самым факультативным, кроме украинской литературы, был украинский язык. Моим друзьям-гастарбайтерам, беженцам из Курской, Орловской и Белгородской областей, обычно хватало месяца, чтобы придумать свой русско-украинский язык. Они входили в аудиторию и говорили: “Пробачьтэ, я опиздав”, — и доброму преподавателю украинского ничего не оставалось, как ответить: “Сидайтэ та бильш нэ опиздуйтэ”, — хотя и он, и все мы знали, что правильно — “я спизнывся” и “бильш нэ спизнюйтэсь”. Но какие, к чёрту, правила, когда и так смешно. Во всяком случае, смешнее, чем сейчас.
В моё время надо было быть полной деревней, чтобы говорить в Харькове на украинском языке. В Минске, я знаю, деревенских называли крестами, возвращая слову “крестьянин” его этимологию; как называли деревенских в Москве или Ташкенте — об этом расскажете мне вы, а в Харькове их звали чертями. Устремлённый ввысь, к небу, конструктивистский, индустриальный Харьков-сити любил охранять свои границы от всего хтонического, подземного: от пришельцев с того света, от гоголевщины, от украинского языка и украинской литературы. В газетах “Ленiнська змiна” и “Соцiалicтична Харкiвщина” сидели специальные женщины, которым уже нечего было терять, и переводили написанные нами статьи с русского на украинский. Когда эти статьи печатали, под ними стояли наши фамилии, и выходило так, что мы эти статьи писали на украинском языке. Если бы меня кто-нибудь тогда спросил, чего я больше всего хочу в жизни, я бы так и ответил: ничего, всё хорошо, чего ж ещё желать?
Охраняя свои границы, Харьков охранял границы России. Россия заканчивалась у Коломака, там, где Харьков переходил, переходил и так и не мог, не хотел, не умел перейти в Полтаву. С харьковской стороны Коломака стоял райцентр Валки (рифмовалось — “свалки”), с полтавской — такой же райцентр Чутово (тоже смешное слово). Когда мы в первом классе учились неплохой, в общем-то, букве “ч”, учительница русского языка попросила нас, дурачков, назвать города, которые начинаются с этой неплохой буквы. Машенька сказала “Челябинск” и получила “пять”, Петенька сказал “Чугуев” и тоже получил “пять”, даже будущий двоечник Витя Малеев раскрыл нам свою душу и назвал Чувашию. Учительница подумала-подумала и — что делать? что бы вы сделали на её месте? — причислила Чувашию к Чугуеву и Челябинску, и Витя Малеев получил первую и последнюю в своей жизни четвёрку. А Вовочка, которым в тот момент был я, встал и назвал свой город на букву “ч”. Но такого города не было, были Чёрное море, был Чингисхан, и даже Чебурашка был как живой, а Чутово, как решили все дети, включая учительницу, существовало только в голове у Вовочки. И ещё в его тетради с домашним заданием, где оно было перечёркнуто красной ручкой, а сверху написано — “Чугуев”.