Самоликвидация
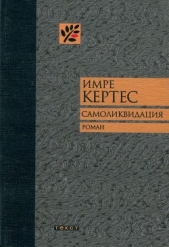
Самоликвидация читать книгу онлайн
Действие нового романа нобелевского лауреата Имре Кертеса (1929) начинается там, где заканчивается «Кадиш по нерожденному ребенку» (русское издание: «Текст», 2003). Десять лет прошло после падения коммунизма. Писатель Б., во время Холокоста выживший в Освенциме, кончает жизнь самоубийством. Его друг Кешерю обнаруживает среди бумаг Б. пьесу «Самоликвидация». В ней предсказан кризис, в котором оказались друзья Б., когда надежды, связанные с падением Берлинской стены, сменились хаосом. Медленно, шаг за шагом, перед Кешерю открывается тайна смерти Б.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шара, выглянув из двери и прислушавшись, нет ли кого на лестничной клетке, ушла. Я же, потный от волнения и нетерпения, обыскивал шкафы, ящики, полки, все мыслимые и немыслимые места — но нигде не находил роман, точнее, рукопись романа, который Б., по моим предположениям, должен был закончить перед смертью.
Пришлось удовлетвориться тем, что удалось найти. Конечно, это тоже был не пустяк, но в наследии просто-таки зияла пустота: все здесь требовало романа, завершения, апофеоза.
Итак, я в спешке собрал следующие материалы, которых хватит по крайней мере на три будущих тома: кроме того рассказа, что был напечатан в журнале, было еще два больших, каждый на целую повесть, рассказа, которые мне уже были знакомы: публиковать их Б., из-за фобии, испытываемой им перед издательским процессом, не собирался, хотя, на мой взгляд — впрочем, не стану выступать с пророчествами, — они, по крайней мере в значительной части, вполне могли считаться шедеврами. Еще я нашел довольно много — на не очень толстый том — всякой всячины. Ворох коротких заметок, или, если угодно, афоризмов: каждая фраза, словно выстрел в затылок, потирал я в свое время руки с той редакторской радостью, которая — приходится с сожалением констатировать — в последнее время начинает во мне угасать. Ну и комедия (трагедия?) под названием «Самоликвидация». Действие пьесы разыгрывается в 1990 году; Б., по всей вероятности, закончил ее незадолго до самоубийства. Роман же, которого, повторяю, я и следов не нашел, Б., скорее всего, написал до того, как приступил к работе над пьесой; впрочем, он, возможно, писал обе вещи параллельно. Вероятно, над романом он работал несколько лет; да и пьесу мог писать долго — или с перерывами? Во всяком случае, рукописные материалы: заметки, наброски — показывают, что, работая над романом, он испробовал и отбросил множество вариантов стилистических и формальных решений.
К счастью, портфель у меня был с собой. Этот потертый, облезлый редакторский портфель я тогда таскал с собой всегда и всюду, как врач всегда и всюду носит саквояж с медицинскими инструментами.
Прежде чем уйти, я еще раз перечитал прощальное письмо Б.: «Не сердитесь! Спокойной ночи!»
Самое краткое прощальное письмо в мировой литературе; в своем роде тоже шедевр, подумал я.
Не знаю почему, но только сейчас мне в голову пришла мысль: я ведь даже не взглянул на тело, точнее, на лицо моего покойного друга. Надо было взглянуть? Не знаю. Тогда я просто не подумал об этом.
Хорошо помню то давящее, тяжелое ощущение в груди, которое заставило меня внезапно проснуться в ту ночь. Уж не инфаркт ли? — подумал я, криво усмехнувшись про себя. Нет, это явно был не инфаркт. Просто я вдруг почувствовал себя бесконечно глупым и опустошенным, словно меня, как ребенка, обвели вокруг пальца и оставили с носом. Кто-то нагло лгал мне, и — как ни странно — этим кем-то прежде всего был я сам. И я задал себе несколько вопросов, которые должен был бы задать гораздо раньше, может быть, еще там, в квартире Б., возле его тела. Например: задумывался ли я когда-нибудь о мотивах Б., о подлинной причине или причинах его страшного решения? Мне снова вспомнилось то давнее душное эспрессо, где мы с ним беседовали о самоубийстве. Почему я принял самоубийство Б. так легко, даже легкомысленно? Причина тут, должно быть, литература; что же еще? Литература, которая настолько основательно оттеснила жизнь, что ее, жизни, естественная логика уже не затрагивает мой образ мысли. Ведь человеку несвойственно так запросто отбрасывать свою жизнь. Я ощутил дуновение некоей тайны; на заднем плане событий брезжило нечто смутное, туманное, чего я не заметил в то время, когда сам был причастен к событиям. Правда, я видел перед собой покойника, и это в каком-то смысле парализовало меня. В таком состоянии все казалось возможным, даже прощальное письмо, которое сунули мне под нос. А сейчас, лежа навзничь на постели в темной комнате, я со стыдом думал о том, что принял и даже назвал про себя шедевром нацарапанную на клочке бумаги несусветную глупость, которая не только Б., но и любого взрослого человека недостойна. Зачем со мной это сделали, безуспешно ломал я голову. Разве такое возможно: Б. приглашает к себе на завтрак с шампанским Шару, свою любовницу — и оставляет ей это прощальное письмо? Нет, не может быть, совершенно ясно, не может… Мне вдруг подумалось, что могли ведь существовать два прощальных письма: одно настоящее, второе — то, которое было предназначено мне. Но какое это имеет отношение к исчезнувшему роману (я, абсолютно самоуверенно, уже только так и думал: «исчезнувший роман»), тайну которого, чувствовал я, нужно искать здесь же.
Ответа ни на один из вопросов я не находил. Я стал, как принято говорить, готовить к печати находившийся у меня материал, а Шаре сказал, что она должна помочь мне редактировать творческое наследие Б. Так начались наши тайные встречи, долгие беседы и прогулки, во время которых я давал Шаре возможность целиком отдаваться своему горю. Иногда она выглядела совсем потерянной и беспомощной, и я со страхом думал: захоти я этого достаточно сильно, я мог бы продолжить с ней то и там, что и где она не завершила с Б. Мысль эта наполняла меня стыдом и паникой, ибо заставляла вспомнить прошлое, о котором не то чтобы говорить — знать не следовало бы.
Именно невозможность делала их связь такой прекрасной, сказала однажды Шара.
— Это было так удивительно, так нереально, — рассказывала она, — будто во сне. Никакие жизненные проблемы нас не тяготили. Мы встречались, бродили по улицам, как два подростка. Делились друг с другом своими «потусторонними тайнами», — рассказывала Шара. Они говорили обо всем: об отчаянии, о книгах, о музыке. Иногда — о Юдит. Шара убеждена была, что Б. все еще любит Юдит. Я, например, никогда не пытался выяснить, как относились друг к другу Б. и Юдит; напротив, всячески избегал этой темы. Даже, если уж честно, скажу: старательно избегал любых тем, которые могли бы привести к Юдит. Шару вообще-то призрак Юдит не слишком тревожил, она просто принимала ее к сведению, как принимала к сведению, по ее собственным словам, неожиданную связь. Кюрти в это время как раз погрузился в конфликт со всем миром, заметила между прочим она. Я спросил ее, в чем это выражалось. Прежде всего — в нескончаемых словоизвержениях, сказала Шара. Утром он с этим вставал, вечером с этим ложился. Речи его представляли собой непроглядное морализаторство: Кюрти вновь и вновь с жаром объяснял, почему то, что обстоит не так, должно обстоять так-то и так-то, и почему не так обстоит то, что должно обстоять так-то и так-то. Речи его были невыносимо однообразны и нетерпимы — и чаще всего заканчивались пугающими, гротескными вспышками ярости. Но если Шара пыталась его прервать, чтобы предотвратить вспышку, он впадал в ярость уже по этому поводу. Грустная эта история надолго лишила меня равновесия: ведь это была история моего бывшего друга; а еще она ясно показывала, к чему приводит жизнь, когда она питается беспочвенными надеждами. Кюрти верил в политику, политика же обманула его, как обманывает всех и всегда.
Не вижу смысла подробно описывать перипетии наших словесных поединков с Шарой; в конце концов, совершенно нежданно, когда я уже ни на что не надеялся, победа свалилась мне в руки, как перезрелое яблоко. Не скажу, что я был этому рад. Иногда даже приятнее оказаться неправым.
Я обратил внимание, что мы, можно сказать, вообще не очень-то можем говорить с ней о творчестве Б. Я спросил, знает ли она, над чем он работал в последние месяцы перед смертью; она — не знала. Но не думает, сказала она, что у него были какие-то масштабные писательские планы, — если не считать того, что он собирался заново перевести «Марш Радецкого»: тот перевод, который ходил по рукам, его совсем не устраивал. Я смотрел на Шару, не веря своим ушам, и думал, что, наверное, в ней все еще действует обида за ужасное унижение, которому подверг ее Б. Когда я думал об утрате, которая ее постигла, о том, какая эмоциональная пропасть разверзлась перед нею со смертью Б., я не мог не понимать, что в эти дни ничто иное ее не интересовало, да и не могло интересовать. Потом, по мере того, как мы с ней сближались, я с удивлением обнаружил, что Шара — человек глубоко верующий, что жизнь она воспринимает как служение, а объект служения для нее воплощен в Кюрти. Но несмотря ни на что, несмотря на Кюрти, несмотря на связь с Б., связь, которая была очень хрупкой и которую нужно было оберегать от всего, словно зимнюю розу (сравнение это принадлежит самой Шаре), она, Шара, не смогла устоять перед бурлящей вокруг всеобщей эйфорией, не смогла не поддаться всеобщему радостному настроению, не смогла не заразиться атмосферой больших надежд. Она тоже пошла на площадь Героев, тоже зажгла свечу и стояла в толпе, пока не стемнело, и пела вместе со всеми, когда вокруг горели тысячи и тысячи свечей. Б. все это не интересовало, Кюрти — приводило в бешенство. Шара не понимала ни того, ни другого, и радость свою, свои чувства — в этот, единственный раз — могла разделить только с толпой. Это было самое серьезное ее разногласие с Б., и тут для нее вставал, иногда просто пугая ее, один неразрешимый и непостижимый вопрос…
























