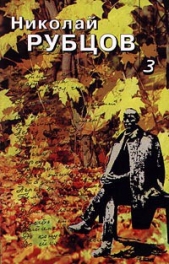Проза и эссе (основное собрание)

Проза и эссе (основное собрание) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я подошел, мы поздоровались за руку. Кроме русского языка, общего у нас было только знакомство с лучшим этого языка поэтом -- с Анной Ахматовой, посвятившей сэру Исайе великолепный цикл "Шиповник цветет". Поводом к циклу была ее встреча в 1946 году с Исайей Берлином, тогда секретарем британского посольства в Москве. Следствием этой встречи стали не только стихи, но и сталинский гнев, мрачной тенью закрывший ахматовскую жизнь на следующие полтора десятилетия.
Поскольку в одном стихотворении цикла -- растянувшегося, в свою очередь, на десять лет -- поэт в маске Дидоны обращается к гостю как к Энею, то меня, в общем, не удивила первая реплика человека в очках: "Ну что она со мной сделала! Эней, Эней! Ну какой из меня Эней!" Он и правда был непохож, и смесь смущения и гордости в его голосе была неподдельной.
С другой стороны, годы спустя в записках о встречах с Ахматовой и Пастернаком в 1946 году, когда "иссякли мира силы и были свежи лишь могилы", сэр Исайя сам сравнивает своих русских хозяев с жертвами кораблекрушения на необитаемом острове, расспрашивающими о цивилизации, от которой они отрезаны уже десятки лет. Во-первых, смысл этого сравнения как-то перекликается с обстоятельствами появления Энея у карфагенской царицы; во-вторых, если не сами участники, то обстановка встречи была достаточно эпической, чтобы вынести последующие отречения от роли героя.
___
Но это годы спустя. Теперь я впервые смотрел в это лицо. В дешевом издании "Ежа и Лисы", которое Ахматова как-то дала мне для передачи Надежде Мандельштам, не было портрета автора; что до "Четырех статей о свободе", они попали ко мне от книжного жучка без обложки -- предосторожность, вызванная темой книги. Лицо было замечательное, помесь, мне показалось, тетерева и спаниеля, с большими карими глазами, равно готовыми к бегству и к погоне.
Старость лица внушала спокойствие, поскольку сама окончательность его черт исключала всякое притворство. Здесь, в чужих краях, куда я вдруг попал, его лицо первое показалось знакомым. Путешественник всегда цепляется за знакомые вещи, будь то телефон или статуя. В краях, откуда я прибыл, такое лицо принадлежало бы учителю, врачу, музыканту, часовщику, ученому -словом, тому, от кого смутно ждешь помощи. Оно же было лицом потенциальной жертвы, и мне вдруг стало спокойно.
Потом, мы говорили по-русски -- к страшному изумлению персонала в форме. Разговор, естественно, зашел об Ахматовой, и тогда я спросил сэра Исайю, как он отыскал меня в Лондоне. Ответ напомнил мне о титульном листе изувеченного издания "Четырех статей о свободе" и заставил смутиться. Я обязан был помнить, что книга, три года служившая мне противоядием от всех видов демагогии, в которой просто захлебывалось мое родное государство, была посвящена человеку, под чьей крышей я теперь жил.
Выяснилось, что Стивен Спендер дружил с сэром Исайей еще с Оксфорда. Чуть позже выяснилось, что с тех же пор с ним дружил и У. X. Оден, чье "Письмо лорду Байрону" наравне с "Четырьмя статьями" в свое время было моим ежедневным карманным руководством. В этот миг я понял, что огромной долей душевного здоровья обязан людям одного поколения, оксфордскому выпуску примерно 1930 года; и что я, в сущности, невольный плод их дружбы; что они захаживали в книги друг к другу, как в комнаты Корпус-Кристи или Юниверсити-Колледжа4; что в итоге эти комнаты съежились до размеров книжки у меня в руках.
Вдобавок ко всему, теперь я у них гостил. Само собой, я о каждом хотел узнать все и немедленно. Две самые интересные вещи на этом свете, как заметил однажды Э. М. Сьоран5, это сплетни и метафизика. Можно продолжить, что и структура у них сходная: одно легко принять за другое. Им и был отдан остаток вечера, благодаря свойствам жизни тех, о ком я выспрашивал, и благодаря цепкой памяти моего хозяина.
Которая, разумеется, снова навела меня на мысль об Ахматовой, тоже имевшей поразительную способность ничего не забывать: даты, топографические детали, имена и анкетные данные людей, их семейные обстоятельства, кузенов, племянников, племянниц, вторые и третьи браки, происхождение их жен и мужей, партийную принадлежность, когда и кем издавались их книги и, в случае печального конца, кто именно на них донес. Она тоже могла по первому требованию сплести широкую, паутинную, осязаемую ткань, и даже тембр ее низкого монотонного голоса был сродни звучавшему теперь в библиотеке Атенеума.
Нет, человек напротив меня Энеем не был, так как Эней, я думаю, ничего не помнил. Да и Ахматова не годилась в Дидоны, чтобы погибнуть всего от одной трагедии, умереть в пламени. Кто бы описал его языки, позволь она себе это? С другой стороны, действительно есть что-то от Вергилия в способности помнить не только свою жизнь, в пристальном внимании к чужим судьбам, и это свойство не одних поэтов.
Но, опять-таки, ярлык философа я не мог бы прикрепить к сэру Исайе, поскольку тот изувеченный экземпляр "Четырех статей" был скорее следствием физиологического отвращения к жестокому веку, чем философским трактатом. По той же причине и историком идей я бы его не назвал. Для меня его слова всегда звучали как вопль из чрева чудовища, скорее как крик помощи, чем о помощи -- нормальный ответ ума, обожженного и исполосованного настоящим, которого он никому не желает в качестве будущего.
Кроме того, в стране, из которой я приехал, "философия", в общем, считалась бранным словом и включала понятие системы. К "Четырем статьям" располагало то, что они никакой системы не выдвигали, поскольку "свобода" и "система" суть антонимы. Что касается нахальной увертки, будто отсутствие системы тоже своего рода система, то я абсолютно уверен, что с этим силлогизмом я бы ужился, не говоря уже о такой системе.
И я помню, как, пробираясь по той книге без обложки, я часто останавливался, чтобы воскликнуть: как по-русски! При этом я имел в виду не только аргументы автора, но и способ их подачи: нагромождение придаточных, отступления и вопросы, прозаические каденции, отдававшие сардоническим красноречием лучшей русской литературы XIX века.
Конечно, я знал (наверно, от Ахматовой), что мой нынешний атенеумский собеседник родом из Риги. Еще она считала его личным другом Черчилля, чьим любимым чтением в войну были донесения Берлина из Вашингтона. Еще она была совершенно уверена, что именно Берлин выхлопотал ей почетную степень в Оксфорде и премию Этна Таормина в Италии в 1963-м. (Повидав потом оксфордских профессоров, я понял, что такие хлопоты гораздо тернистее, чем она могла вообразить.) "Его кумир Герцен",-- добавляла она, пожав плечами, и отворачивалась к окну.
Несмотря на все это, читанное мной не было "русским". Не имел места ни брак западного рационализма с восточной душевностью, ни отягощение английской ясности русскими флексиями. Оно представлялось мне самым полным и отчетливым высказыванием неповторимой души, сознающей и границы, поставленные ей любым языком, и опасность этих границ. Где я восклицал "русское!", следовало сказать "человеческое". То же относится и к местам, где можно вздохнуть: как по-английски!
Сплав двух культур? Примирение их разнородных ценностей? Если да, то в этом только отразились человеческая потребность и умение сплавлять и мирить гораздо более. Возможно, от Востока здесь представление, что разум не заслуживает столь уж сильных похвал или что разум всего лишь отчетливо высказанная страсть. Вот почему защита рациональных идей иногда оборачивается в высшей степени эмоциональным занятием.
Я заметил, что заведение решительно английское, весьма викторианское, если быть точным. "Именно так,-- улыбнувшись, ответил мой хозяин.-- Это остров на острове. То, что осталось от Англии, если угодно -- ее идея". И словно сомневаясь, что я уловил мысль, прибавил: "Герценовская идея Лондона. Не хватает только тумана". И здесь был взгляд на себя со стороны, издали, с выигрышной точки, психологически расположенной где-то между Англией и Америкой, посередине Атлантического океана. Фраза звучала как оденовское: "Взгляни теперь на остров, иностранец..."