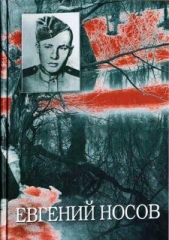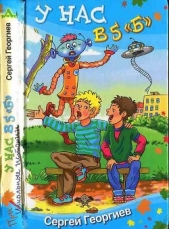Последний парад

Последний парад читать книгу онлайн
В новую книгу известного русского писателя, лауреата многих литературных премий, в том числе международной Платоновской и премии "России верные сыны", финалиста национального "Бестселлера-2003", вошли рассказы и романтическая повесть "Белая невеста".
Карамболь - это мастерский удар, который доступен лишь "академикам" бильярда. Карамболь - это изысканность, виртуозность, непредсказуемость. Все эти качества присущи прозе Дегтева, а представленным в книге произведениям, в особенности.
Критики отмечают у Дегтева внутренний лиризм до сентиментальности, откровенную жесткость до жестокости, самоуверенную амбициозность "лидера постреализма". Они окрестили его "русским Джеком Лондоном", а Юрий Бондарев назвал "самым ярким открытием последнего десятилетия".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бывшие хуторяне переглянулись со Шнырой, представлявшим местную власть, и по выражению его лица было видно, что он предвидит все прелести такого компактного проживания, и скоро хлебнет этих прелестей по самое некуда… Но Геня лишь развел руками.
– Да и хорошо тут у вас. Тихо,- продолжил носатый землекоп.- Не то что у нас,- неопределенно махнул рукой и показал на "КамАЗ", где еще не успели покрыться ржавчиной рваные пулевые дыры.- А на фундаменте мечеть поставим. Место отличное – далеко видно…
Уезжали с родного пепелища, как с похорон. Впору было выкапывать и увозить покойников. На задних сидениях дребезжала стела. Все молчали. Лишь историк бормотал что-то о Куликовской битве, которая произошла в аккурат на Рождество Богородицы, но никто уже его не слушал. Подъехав к Бурчаку, остановились на мосту через смиренную речушку Потудань. Публицист хотел было напомнить, что и речка описана-увековечена, но от него отмахнулись. Шофер взял стелу и бросил ее с моста в трясину, прорвав ряску. Стела булькнула -и будто не было ее.
– Вишь, что творится!- пробормотал Сахун.- И такое – по всей России. Что же нам, русским,- покосился в сторону Фрунзика Иосифовича,-делать? А, мужички?
Все молчали. Даже всезнающий историк, хоть и покрылся обиженно пятнами. Видно, недаром злые языки говорили, что среди историков он публицист, а среди публицистов – нацмен…
– Что-что?- бросил через плечо шофер, злобно взглянув на Алку, которая, косясь в зеркало, наводила красоту,- размножаться! Плодитесь и размножайтесь, сказано, занимайте землю и владейте ею. У меня их четверо, гавриков. Всех по дедам назвал. Вырастут! А у вас?
Все опять смолчали. Но каждый про себя подумал, что надо бы Славуне уволить этого умника, которого зовут – Иван.
АУТОДАФЕ (Плач)
Подвергнуть кого-либо публичному позору и даже сожжению – это еще не значит доказать свою правоту.
Макиавелли.
Крестный мой горделивый, бильярдно-лысый и медленно усыхающий, давно уж передает-намекает: пусть бы, дескать, крестник написал о хуторе нашем родимом. В некотором роде – увековечил бы и прославил. А я все откладывал да отмахивался: ужО еще! Пока не съездил на родину. И вот, земляки милые, единокровцы незабвенные, извольте убедиться: прославляю и в некотором роде увековечиваю. Хотя и не без смешанных, горьких чувств.
Мне казалось в последнее время, что вокруг меня все еще легкий утренний сон развевается, как прихотливый розовый туманец, клубящийся, отплывающий, подобно мареву, – а то проходит, проплывает, истончается мимотекущая, мимолетная, почти мгновенная жизнь моя ненаглядная, проистекает неумолимо, и все мимо, мимо, как вода из горсти, просыпается, провеивается, как песок в часах, чах-чах, чах-чах, улетает, как ветер духовитый, духмяный, сквозь седую тополиную листву струящийся… И вот уж сорок мне годков, и на родине милой не бывал лет эдак двадцать пять с гаком.
И вот собрался и поехал.
Приехал, оглянулся окрест, -
И душа моя содрогнулась.
И я горько-горько заплакал.
Глубоко в душе.
Я восплачу-воспою, дорогой читатель, не о глянцевой заграничной экзотике, воспою-восславлю не "сладкую парочку" и не "Пепси", которое кто-то где-то выбирает, я поведу речь о смиренной нашей, сирой и убогой, а теперь еще и вечно пиано-пьяной родине милой, о далеком, серо тлеющем под нещедрым солнцем вымирающем хуторе, который давно уж позабыт Богом нашим православным, да и неправославными богами позабыт тоже… Я знаю, дорогой, как занят ты собою, любимым, и тебе, мимоидущему, мимобегущему, конечно же нет никакого дела до какого-то там далекого, безвестного поселения отнюдь негородского типа, – но это моя родина, слышь, братан, серая, неказистая, и вечно похмельная, лохматая, непричесанная, и потому я попытаюсь все же пропеть о ней достойно и, если уж не возвышенно, то хотя бы без унижения, и постараюсь, уважаемый, чтоб тебе, пресыщенному, не сделалось бы скучно.
Итак, мне казалось, что думы о родине давно уж оставили охладелое, очерствелое сердце мое равнодушное; мне давно уж не жаль чужую кровь, что как водица, да и свою не жалею; давно не подаю нищим, друзьям не верю и женщинам, и к исповеди-причастию забыл уж когда ходил. Думал, что никогда уж не потянет меня под те трехохватные дубы, усеянные гнездами грачиными, под которыми сделал первые, самые важные в жизни шажки несмелые, – из сказочного небытия сделал в этот горько-полынный, продажно-прогнивший, несовершенный мир печальный. И вот я на родине неприветливой, неприглядной, и пятеро из шести, кого встретил, были пьяно-пианы и на бомжей похожи, я не угадал их и они меня не узнали тоже, а под дубами, между тем, все так же пахнет грачиным пухом и пометом, и дубы, кажется, ничуть не изменилися, не прибавили ни в росте, ни в толщине за те двадцать пять с гаком разлуки. Впрочем, четыре дуба успели рухнуть. Увы, даже эти могучие великаны не вечны в этом ложном мире, неверном и нестойком.
После дубов направляю стопы свои к крестному скромно ожидающему. Вот он – на крылечке крашенном, расписанном, стоит и смотрит из-под ладони, маленький, прямой, горделивый, как Суворов какой-нибудь или Бонапарт-корсиканец. Сейчас он, пожалуй, самый справный на хуторе хозяин, хоть и старик совсем. У него с женой пенсии, мерин, пасека, ухоженный сад и два огорода, а также разнообразной, разнокопытной скотины и птицы разноперой, плавающей и неплавающей, полон двор его просторный. Ему семьдесят, однако больше пятидесяти восьми никто не дает, глаза голубы и глубоки, как апрельское бездонное небушко, он бодр, в ладах с юмором, ум ясен и здрав, черты лица правильны, даже можно сказать – благородны, недаром происходим мы из талагаев-однодворцев, крепостное ярмо предков не коснулося, наоборот, сами имели право живые души покупать. Даже сейчас он кое-что выписывает из прессы, в основном то, где мелькает крестник. Он поддержит беседу с любым профессором, а при случае и "срежет", за ним не заржавеет, выпьет с вами и даже песни поиграет, но ум никогда не пропивал и память отменная. Можно смело утверждать, что жизнь его удалась и прошла с пользой.
Почему же у вас, милые сверстники, друзья-односумы, почему у вас она не сложилась, не получилась, не склеилась, а кое у кого уж и завершилась трагично? Почему ушли на небесные пажити не в свое время Бартень, сгоревший от водки вместе с братом Васькой, Сашка-лекарь прямо в борозде, непохмеленный, отдал Богу душу свою нескладную, Сашка Мицин по пьянке убит в собственном киоске, Худяк зарезан нетрезвым, и прочие, прочие хорошие люди по пьяни дурно кончили.