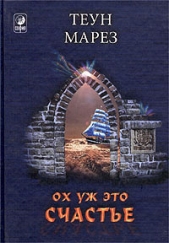Беглец из рая

Беглец из рая читать книгу онлайн
В новой книге известного русского писателя В.В.Личутина – автора исторических произведений "Скитальцы", трилогии "Раскол" – продолжается тема романов "Любостай" и "Миледи Ротман" о мятущейся душе интеллигента, о поисках своего места в современной России. Это – тот же раскол и в душах людей, и в жизни...
Неустроенность, потерянность исконных природных корней, своей "родовы", глубокий психологический надлом одних и нравственная деградация на фоне видимого благополучия и денежного довольства других...
Автор свойственным ему неповторимым, сочным, "личутинским" языком создает образ героя, не нашедшего своего места в новых исторических реалиях, но стремящегося сохранить незапятнанной душу и любящее сердце способное откликаться на чужую боль и социальную несправедливость, сердце, вопреки всему жаждущее любви, нежности, человеческого тепла и взаимопонимания. Сколько суждено ему страдать, какие потери пережить, узнает нынешний читатель.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Кто о чем, а вшивый о бане... Успокойся, ведь не вся жизнь ниже пояса...
– Ну так объясни нам, дуракам, если такая умная...
– Сотрудники ада, вот кто... Поликарп Иванович рассказал мне... Они охотились за ним, они хотели прогнать его из земного рая...
– Что, и у тебя, Танчура, крыша поехала? – спросил отец. – Видно, совсем заморочили вам головы в городах... Ехала бы ты домой, девка...
– И давно поехала... Только говорить тебе не хотелось, – злорадно захохотал Катузов. – Макинтоши для ангелов кроит, а про штаны забыла. Летят мужики по небу, а шланги наружу... И какашки – на голову.
– Катузов, ты меня очень сильно обидел. Я тебе этих слов никогда не прощу.
– Так уж никогда... Зачешется пониже пупенца, сама попросишь... – Илья зачем-то дразнил, притравливал жену, словно бы готовил к разрыву. Взорвется баба, наговорит колкостей и тем как бы подготовит Кутузову дорогу к уходу: де, поглядите, люди добрые, ну как с такою стервой жить?
– А у тебя вообще никогда крыши не было. Посмотри на себя в зеркало... Не голова, а грыжа... Место под шапку, если не сказать хуже. Дон Жуан из Пердичева, только по юбкам шарить да плодить уродов, себе подобных! – Голос Татьяны зазвенел, сорвался на визг, глаза округлились, позеленели от ярости.
– А ты мою родину не замай, жабья дочь... Вылезла из Жабок... Кутюрье, бультерье... Ха-ха... Ее в Париже ждут, дура!.. Выползла из болота и корчит всю из себя... Запомни, Танька, на всю оставшуюся жизнь: Одесса – мама, Бердичев – папа... Иначе пропадешь... Если хочешь знать, из Бердичева великие люди на свет вышли, на весь мир знаменитые...
– Это ты, что ли?
– А хоть бы и я...
Бедный Поликушка был начисто забыт: единственная поминальная рюмка и та пошла дуриком, не в свой черед, и замутила смятенные неразумные головы. Зулус не вмешивался, может, не решался взять чью-либо сторону, и я понимал его затруднения: если, предположим, склониться к дочери, защитить ее, то зятю может крепко не занравиться, и тогда самое пустяковое слово вдруг обернется порохом иль берестяным свитком и подпустит лишнего жару в семейный неустрой, а если же Катузова поддержать в нескладную минуту, то Танчура может глубоко, непростимо обидеться до конца жизни. А как хочется, чтобы у дочери все заладилось, и как знать, если сейчас на людях царюют буря и натиск, гром и молоньи, то в минуты ночного уединения они сами скоро столкуются и затрут ласками все случайные шероховатости; только бы сейчас не усугубить семейную досаду случайным попреком... И потому, наверное, Зулус молчал и туго соображал, тупо уставясь в салатницу, откуда торчала серебряная ложка, похожая на рукоять клинка.
Но я, лишний вовсе при споре человек, никак не мог принять этого вздора на поминках: душа бунтовала. Я с тоскою взглядывал на окно, словно ожидал увидеть зрячую душу Поликушки. Старик никогда не понимал небесных блаженств и потому с плачем покидал сейчас родимую землю, на которой не смог сохранить рая. И откланяться-то, уйти мне казалось неловким: словно бы поспешу прочь от трудных обстоятельств, умыв руки и сохранив достойную мину на лице. И вовсе некстати подумал, почему-то жалея Зулуса, его поклонную голову, густо припорошенную ранним снегом: если не утишить, не унять сейчас ссоры, то, видит Бог, не избежать слез и проклятий. И ведь знаю, что в данную минуту третий лишний, что милые не бранятся, а только тешатся, но влез, бездельный, со своим профессорским, брюзгливо-поучающим голосом:
– Молодые люди, очнитесь!.. Остыньте, горячие головы! Сейчас наговорите лишнего, а после стыдно будет вспомнить. Остудите, милые, жар, опомнитесь: язык на замок, а ключ в море.
И перенял, дурень, всю ярость на себя... Даже Зулус не заступился за меня, своего благодетеля. Он потел в своей старинной черной тройке, перехватывая со стола рюмки и кидая их в бездонную прожорливую топку бывшего воркутинского шахтера, и, может, придумывал для меня в назидание потомкам необычную казнь. Да и было за что держать мстительный умысел, ибо снова я, уже в который раз, оказался свидетелем не совсем благовидного подсудного поступка. Я, как тяжелое бревно, оказывался на его дороге...
– Не вам бы нас поучать, Павел Петрович. – Катузов принагнулся вопросительным знаком, чтобы поглядеть мне в глаза, я невольно отвернулся, но Илья, преследуя, не спускал с меня привязчивого злого взгляда.
– Это почему же?..
– Мы, конечно, небезгрешные с Танчурой, но и ты не святой. Указчику – чирей на щеку. Так, кажется, в народе говорится? Грубо, но верно. – Катузов приобнял жену за плечико, и Татьяна не скинула тяжелой властной руки.
Я проглотил грубость, чтобы, опомнясь от внезапного нападения, выварить из нее желчь для грядущего поединка. Конечно, дворянской дуэли на пистолях не получится. И даже той, что предполагалась меж Гаврошем и Зулусом: на кладбище возле свежевырытых могил... Но и прощения от Катузова ждать бесполезно. Я, наверное, переступил дорогу искателю горючих сланцев, затворил ему путь в верха, чтобы пробиться в касту посвященных, и потому Катузов возненавидел меня с первой встречи и теперь ищет случая, чтобы сквитаться со мною. Да, муж и жена – одна сатана... И то, что Татьяна Кутюрье, милая портняжка из Жабок, неожиданно покорилась своему властелину, обрадовало меня, будто я уже одержал крохотную победу и склеил глубокую трещину в семейном кувшине. Неужели система сбоев вдруг потеряла свою остроту?
– Все же мы, Катузов, на поминках... – напомнил я.
– Да, на поминках... Но эти поминки устроили вы, Павел Петрович. Это вы убили Поликушку, отняли у него дурацкий земной рай, когда деревянный рубль был поделен на всех, и снова вздумали надеть на русский народ камзол и вшивый парик времен масона Петра... Себя-то вы, конечно, уже в дворянах видите? А может, и бумагу на то звание имеете с гербовой печатью и поместье?
– Каюсь... – искренне повинился я. – Никак не представлял, что власть перехватят дилетанты от науки, продавцы цветов, картежники и анекдотчики одесского разлива, мелкие шулера и менялы, шестерки и братва, кому прежде считалось неприличным подать руки.
– Вот-вот... Не согрешишь – не покаешься. Кайтесь, бейтесь лбом до крови, но нас не невольте. Я бы всех вас заслал в химчистку, вывесил на просушку на солнышко, а к власти призвал бы варягов: володейте нами... Видите ли, ему Поликушку жалко... Боже мой, Боже мой! – Катузов театрально всплеснул руками, и острый кадык мелькнул под кожею, как поплавок под мелкой речной быстриною.
– Кого вас-то? Кого?..
– А всех колбасников-коммуняк. Обещали рая, а настроили лагерей... И снова вы, везде вы, партейные, и снова кругом лагеря нищеты и колбаса для простого народа, в которой нет мяса, но есть немецкая синтетическая вата и финская туалетная бумага. И снова прежние крики о благоденствии, – словно и не было бархатной демократической революции и босс Ельцин не влезал на танк, превозмогая дикое похмелье и одышку, одним глазом кося на убежище в Белом доме, а другим – на приоткрытые двери в американском посольстве... Прав кудрявый Немцов, хоть и туповат, но с наглецой и напором. Весь мир должен принадлежать деловым людям, кто знает, в натуре, как отделить желток от белка, не взламывая яйца... А вам, колбасникам, обязательно надо сначала все раздолбать, отнять и поделить. – Катузов говорил всполошливо, напористо и зло, жена же с любопытством и недоверием смотрела снизу вверх на извивистые тонкие губы, на ядовитую ухмылку, на впалые щеки, будто скроенные из солдатской кирзы.
– Ты что, анархист? – спросила Татьяна с издевкою.
– Нудист с трехцветным покрасом, – неулыбчиво ответил Катузов. – Когда приду к власти, всех заставлю ходить голыми, в первую очередь Черномырдина, Хромушина и т.д. Только взглянул на человека, и сразу понятно, кто он и на что годен. За зебры – и на солнышко на просушку... В одежде вроде бы демократ, а раздень его – сплошь красный!
Мне стало жаль Катузова. Он был из породы неудачников, с тяжелой хворью на душе и потому тайно боящийся Бога. Илья завидовал мне даже за то, что я с такой легкостью распрощался с былым благополучием, находя в добровольном заточении утешение и замену тленным земным почестям... Значит, я в изнурительных гонках по жизни опередил Катузова на целый круг, и ему уже никогда не догнать меня в этом мире... Только от одной этой мысли сойдешь с ума. Ведь сначала ему предстоит насытить гордыню, а после пренебречь ею. И потому Катузов презирал меня, находя хоть в этом утешение.