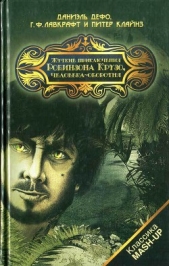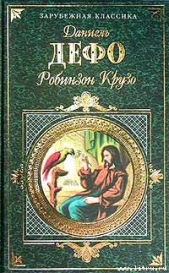Тропик любви
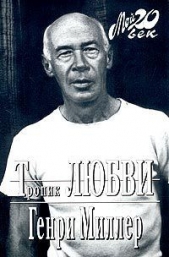
Тропик любви читать книгу онлайн
Книга Генри Миллера «Тропик Рака» в свое время буквально взорвала общественную мораль обоих полушарий Земли. Герой книги, в котором очевидно прослеживалась личность самого автора, «выдал» такую череду эротических откровений, да еще изложенных таким сочным языком, что не один читатель задумался над полноценностью своего сексуального бытия… Прошли годы. И поклонники творчества писателя узнали нового Миллера — вдумчивого, почти целомудренного, глубокого философа. Разумеется, в мемуарах он не обошел стороной «бедовую жизнь» в Париже, но рассказал и о том, как учился у великих французских писателей и художников, изложил свои мысли о мировой литературе и искусстве. Но тут же, рядом — остроумные, лишенные «запретных тем» беседы с новыми друзьями: бродягами, наркоманами, забулдыгами, проститутками…
Перевод выполнен по первому изданию: Big Sur and the Oranges of Hieronimus Bosch. New York, New Directions, 1957.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я тупо гляжу на поле цвета ирландской зелени. Это поле Лоренса Даррелла, геральдическое поле во всех смыслах слова. Тупо глядя на это поле, я вдруг понимаю, что пытался сказать мне Даррелл в своих длинных полубредовых поэмах, которые он называл письмами. Когда в холодный летний день мне в Вилла Сера в Париже приходили эти геральдические послания, я всегда думал, что, прежде чем взяться за перо, он, чтобы оно легче скользило, заправлял ноздрю кокаином. Однажды из конверта вывалилась целая стопа бумаги с чем-то похожим на прозу — все это имело название «Ноль» и было посвящено мне тем самым Дарреллом, который сообщил, что живет на Корфу. Я слыхал о гадании по птичьим следам и по печени и однажды почти понял идею абсолютного ноля, пусть и не был еще изобретен такой термометр, который бы его измерил, но, только сидя здесь и глядя на поле цвета ирландской зелени перед таверной Агамемнона, я понял идею Ноля в геральдическом смысле. Еще не было поля столь гербово зеленого, как это. Когда замечаешь что-то истинное и несомненное, ты приближаешься к нулевой отметке. Для ясного взгляда Ноль — греческого происхождения. Это важно, то, о чем говорит Даррелл, когда пишет об Ионии. Это важно, и теперь, например, я могу объяснить это точнее, потому что то, о чем я пытаюсь сказать, происходит прямо у меня на глазах… В поле стоят женщина и двое мужчин. Один из мужчин держит мерную рейку. Он собирается отмерять участок земли, подаренный ему на свадьбу. Его невеста здесь для того, чтобы проследить, как бы жених не ошибся в измерениях даже на миллиметр. Они ползают на четвереньках, спорят из-за крохотной частицы земли в юго-западном углу участка. Может, из-за прутика, попавшего под рейку, она отклонилась на миллиметр. Невозможно быть более внимательным. А еще толкуют, что, мол, дареному коню в зубы не смотрят! Они отмеряют то, что до сих пор было для меня лишь словом — словом «земля». Мертвые герои, золотые кубки, круглые щиты, драгоценные украшения, кинжалы с чеканным узором — до всего этого им нет никакого дела. Единственное, что ценно, насущно необходимо, — это земля, просто земля. Я перекатываю это слово на языке — земля, земля, земля. Ну да, в самом деле, земля — я чуть не забыл, что это слово означает такую простую, вечную вещь. Кое-кто вопит извращенное, посрамленное, искаженное, внушенное: «Земля Свободы» — и прочее в том же роде. Земля — это то, где растят урожай, возводят дома, пасут коров и овец. Земля — это земля, какое великое и простое слово! Да, Лоренс Даррелл, ты превращаешь ее в ноль, точку отсчета: ты берешь комок влажного чернозема и, стискивая его, пропуская сквозь пальцы, получаешь двоих мужчин и женщину, которые стоят на поле цвета ирландской зелени, меряя землю. Приносят вино. Я поднимаю стакан. Я приветствую тебя, Ларри, дорогой мой друг, и пусть твое знамя всегда развевается на нулевой отметке! Через несколько страниц мы вместе с ним снова побываем в Микенах, и Нэнси поведет нас вниз по загаженным летучими мышами ступеням в бездонный колодец.
Часть вторая
Наше грандиозное путешествие по Пелопоннесу прервалось в Микенах. Кацимбалис получил известие, что должен срочно вернуться в Афины, поскольку неожиданно обнаружился участок земли, который проглядели его адвокаты. Кацимбалис не пришел в восторг от этого известия. Напротив, он впал в уныние: новая собственность, значит, новые налоги, новые долги — и новая головная боль. Я мог бы продолжать знакомство с Грецией в одиночку, но предпочел вернуться с ним в Афины и разобраться в своих впечатлениях и ощущениях. Мы сели на автомотрису в Микенах и спустя часов пять или шесть, если не ошибаюсь, были в Афинах, заплатив за билеты смешные деньги: как за пару коктейлей в «Ритце».
За время от моего возвращения и до отбытия на Корфу произошло три-четыре незначительных события, о которых мне хочется здесь коротко упомянуть. Первое связано с американским фильмом «Хуарес», [450] который несколько недель шел в одном из лучших афинских кинотеатров. Несмотря на то, что Греция находится под властью военной диктатуры, фильм этот, лишь в слегка сокращенном после нескольких показов виде, идет и днем и ночью в переполненных залах. Атмосфера напряженная, аплодисменты — явно республиканские. Фильм по многим причинам вызывает бурную реакцию греков. Чувствуется, что дух Венизелоса [451] все еще жив. Чувствуется, что, слушая резкую и великолепную речь Хуареса, обращающегося к собранию представителей иностранных держав, люди начинают проводить странные и волнующие аналогии между трагическим положением Мексики при Максимилиане [452] и нынешним опасным положением Греции. Единственный настоящий, единственный сравнительно бескорыстный друг Греции сейчас — это Америка. Об этом я еще скажу, когда буду на Крите, месте рождения Венизелоса и Эль Греко. Но быть очевидцем того, как показывают волнующе обличительный фильм, направленный против всех форм диктатуры, самому находиться среди зрителей, чьи руки развязаны только для аплодисментов, — это незабываемо. То был один из редких моментов, когда, находясь в стране, которая закована в кандалы, у которой кляп во рту, было почти приятно осознавать себя американцем.
Вторым событием стало посещение астрономической обсерватории в Афинах, устроенное для нас с Дарреллом Теодором Стефанидисом, который, будучи астрономом-любителем, совершил несколько важных открытий, признанных в научных кругах. Астрономы встретили нас очень радушно благодаря щедрой поддержке, оказанной им американскими коллегами. Мне никогда не приходилось смотреть в телескоп настоящей обсерватории. Полагаю, что и Дарреллу тоже. Впечатление было потрясающее, хотя наша реакция была не вполне такой, как ожидали хозяева. Наши мальчишеские и восторженные восклицания, похоже, смутили их, определенно отличаясь от общепринятой реакции на те чудеса, что открываются смотрящему в телескоп. Никогда не забуду их полное изумление, когда Даррелл, глядя на Плеяды, вдруг воскликнул: «Боже розенкрейцерский!» Что он имел в виду? — хотелось им знать. Я взобрался по лестнице и приник к окуляру. Сомневаюсь, что смогу описать впечатление от первого, перехватывающего дыхание взгляда на расколотый мир звезд. Образ, который всегда будет всплывать передо мной при воспоминании об увиденном, — это образ Шартрского собора, лучезарная роза окна, разнесенного взрывом ручной гранаты. Я вкладываю в этот образ двойной или даже тройной смысл — внушающей благоговение неразрушимой красоты и космической разрухи, руин мира, висящих в небесах подобно роковому предзнаменованию, а еще бессмертия красоты, пусть взорванной и оскверненной. «Что наверху, то и внизу», — гласит знаменитое изречение Гермеса Трисмегиста. [453] Глядя в мощный телескоп на Плеяды, ощущаешь великую и ужасную истину этих слов. В высших взлетах человеческого духа — в музыке и архитектуре прежде всего, ибо они единосущны, — есть иллюзия соперничества с архитектоникой, величием и великолепием небесных сфер; зло и разруха, которые человек творит, обуянный страстью к уничтожению, кажутся ни с чем не сравнимыми, если не задуматься о великих звездных катастрофах, вызванных помрачением ума у неведомого Волшебника. Нашим хозяевам подобные мысли, похоже, не приходили в голову; они со знанием дела рассуждали о весе звезд, расстоянии до них, о звездном веществе и тому подобном. Им обычные интересы сограждан чужды совершенно иначе, чем нам. Для них красота — это что-то второстепенное, для нас она — все. Для них физико-математический мир, нащупанный, размеченный, взвешенный и переданный с помощью инструментов, — это сама реальность, звезды и планеты — просто доказательство их непревзойденных и безошибочных логических построений. Для Даррелла и меня реальность лежит за пределами досягаемости их ничтожных инструментов, которые сами по себе не более чем грубая копия их ограниченного воображения, запертого навек в тюрьме гипотетической логики. Их астрономические выкладки и подсчеты, которыми они намеревались поразить, внушить благоговейный трепет, лишь вызывали у нас снисходительную улыбку, а то и невежливый откровенный смех. Что до меня, то факты и цифры никогда не производили на меня никакого впечатления. Световой год, по моему мнению, вещь не более удивительная, чем секунда или доля секунды. Это забава для кретинов, которой можно заниматься бесконечно, ad nauseam, [454] и так ни к чему не прийти. Точно так же я не убежден в реальности звезды, когда вижу ее в телескоп. Она может быть ярче, красивее, она может быть в тысячу, в миллион раз больше, чем если бы я видел ее невооруженным глазом, но от этого она ничуть не становится реальней. Говорить, что именно так выглядит на самом деле какая-то вещь только потому, что увидел ее увеличенной, грандиозной, по-моему, совершенно бессмысленно. Она столь же реальна для меня, как если бы я ее вовсе не видел, а просто вообразил, что она там есть. И наконец, даже если и мне, и астроному она предстанет одинаковой по величине и яркости, мы все равно увидим ее разными глазами — одного восклицания Даррелла достаточно, чтобы подтвердить это.