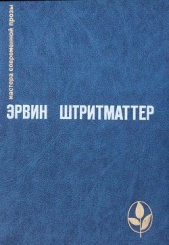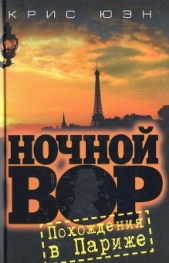Цирк Кристенсена

Цирк Кристенсена читать книгу онлайн
Роман «Цирк Кристенсена» вышел в 2006 году, именно в этот год один из самых известных норвежских писателей Ларс Соби Кристенсен отметил 30-летие своей творческой деятельности. Действие книги начинается в Париже, на книжной ярмарке, куда герой, знаменитый литератор, приезжает, чтобы прочитать лекцию о современном состоянии скандинавской словесности. Но неожиданное происшествие — герой падает со сцены — резко меняет ход повествования, и мы переносимся в Осло 60-х, где прошло его детство. Вместе с тринадцатилетним подростком, нанявшимся посыльным в цветочный магазин, чтобы осуществить свою мечту — купить электрогитару, мы оказываемся в самых разных уголках города, попадаем в весьма необычные ситуации, встречаемся с самыми разными людьми. Мечте не суждено сбыться, но случайное знакомство с загадочной незнакомкой, бывшей воздушной гимнасткой, чью тайну мальчик стремится разгадать, производит переворот в его сознании.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пожалуй, да.
— Пожалуй? Учет — штука точная, не то что литература.
— История литературы.
— Ты, например, знаешь, что такое дебет?
— Нет, папа.
— Дебет по-латыни означает «он задолжал». А значит, что такое кредит?
— Он не задолжал.
Отец долго смеялся.
— Непременно расскажу завтра в банке. Не возражаешь? Если я расскажу в банке?
— Нет, папа.
— Кредит означает «он ручается» и стоит в правом столбце, тогда как дебет стоит в левом. Вот, теперь ты знаешь.
— Да, папа.
— Так скажи мне, ты в дебете или в кредите?
— В дебете.
— В дебете? Правда? Ты задолжал?
— Я имею в виду, в кредите, папа.
— Будь у тебя приличная энциклопедия, ты мог бы просто почитать там. Про дебет и кредит.
Я ничего не сказал, только смотрел на буквы, которые плавали над столом, будто мухи в тарелке с серой водой, и руки у меня намокли просто оттого, что я тут сидел.
Отец грузно встал, последний раз в этот вечер, но у двери остановился.
— Что ты будешь делать с электрогитарой без усилителя? — спросил он.
— Можно присоединить к радиоприемнику.
— К радиоприемнику? Будешь играть на гитаре и слушать сводку погоды? Или новости рыболовства?
Отец опять рассмеялся.
Я промолчал, считая, что так будет лучше для нас обоих.
Но отец, когда решил, что посмеялся достаточно, сказал:
— Все ж таки подумай насчет энциклопедии. Ей усилитель не нужен.
Той ночью, когда мама с отцом улеглись, а Гундерсен, Свистун и Том Кёрлинг никак не могли угомониться, мне стало невмоготу, я тихонько спустился вниз и по белой лунной дорожке поспешил на Бюгдёй-алле, где по обе стороны высились черные деревья, как тощие призраки, вырезанные из угля. Шел я долго-долго. Сердце утюгом прожигало меня до мозга костей. Руки были мокрые, дождем вытекали из запястий. Наконец я остановился возле «Музыки и нот» Бруна. Что-то не так. Я шагнул ближе. Фендеровский «Стратокастер» из витрины исчез. Вместо электрогитары — испорченный букет, букет растоптанных гвоздик. Ценник был прикреплен к сломанному стеблю, но сумму зачеркнули, а вместо нее написали: 463 дня и 8 минут.
Другой ночью улицы Шиллебекка купались в ослепительном свете, хотя никакой луны на небе в помине не было. Я остановился на углу Сволдер- и Габелс-гате и смотрел на происходящее в лучах этого диковинного солнца. Кто-то снимал наши улицы на пленку. Тротуары засыпаны землей. Вместо автомобилей — лошади. Шторы во всех окнах заменили. Время прокрутили вспять, в минувший век. Рядом со мной появился какой-то человек. Репетитор. Голубой цветок в петлице завял. Он, стало быть, опять подошел ко мне и тем самым не сдержал моего клятвенного обещания, а именно что он больше не появится, — разве же теперь можно на меня положиться?
— Что здесь происходит? — спросил я.
— А ты не видишь? У тебя же отличное зрение?
Я сказал:
— Меня слепит.
— Тогда погоди, привыкни.
— Как?
— Всмотрись получше. Лови взгляды. Отыщи взгляд, который хочешь поймать. Другого способа нет.
И я всмотрелся получше и увидел тени, не сразу заметные в ярких лучах, незавершенные характеры, осторожные, странные, буйные, приветливые, застенчивые, гордые, озабоченные, гадкие, симпатичные, унылые и возбужденные, все эти диковинные винтики, стоявшие перед камерой.
— Кто они? — спросил я.
Репетитор положил правую руку мне на плечо.
— В один прекрасный день ты еще узнаешь их, мальчик.
— Как это?
— Это твои люди.
Мои люди?
Я не понимал, что он имеет в виду.
Но я их видел. И раньше видел. Не знаю, конечно, могли ли они видеть меня. По всей вероятности, нет. Потому что теперь яркий белый свет был направлен прямо им в лицо, а не мне. Я стоял с другой стороны.
— Вы знаете их? — спросил я.
Репетитор тихо рассмеялся:
— Ты не знаешь, кто я?
— Знаю. Вы репетитор в «Черной кошке».
Он опять тихо рассмеялся;
— Не только в «Черной кошке», мой мальчик. Я с кем только не репетировал.
Я по-прежнему не понимал, куда он клонит.
— Но не со мной, — сказал я.
— Ну как же. Уже и с тобой начал.
Репетитор провел теплой ладонью по моему лбу, отвернулся и зашагал наискось через Шиллебекк.
Великий режиссер решил, что это уже чересчур, разогнал зевак, чтобы оставили его в покое, но они вернулись, назойливые и смущенные, подходили все ближе и ближе к прожектору, будто моль, того гляди, пальцы себе обожгут, и в конце концов режиссер сдался, подозвал бедняг актеров, погасил лампы и погрузил наши улицы в их обычную темноту.
На следующую ночь пришла мама. Пришла она, когда мне снилось, что кто-то поменял в городе все таблички с названиями улиц. Нильс-Юэльс-гате стала Мункедамсвейен. Вергеланнсвейен стала Вельхавенсгате. И так без конца. А когда народ проснулся, оказалось, все живут по чужим адресам, и они не находили дорогу, и к ним никто добраться не мог. Единственное, что осталось по-прежнему, — это Август-авеню, Хакстхаузенс-гате, 17, и «Музыка и ноты» Бруна, поскольку эти адреса могу поменять только я один. Мама села на край кровати, положила руку мне на лоб. Проявила меня, не спрашивая, хочу я этого или нет. Бережно вытащила меня из этих сновидений. Мама опять была волшебницей.
— У тебя был жар, — сказала она.
— А ты опять была в темной комнате.
— Откуда ты знаешь?
— По запаху чую, — ответил я.
Мама улыбнулась.
— Летние фотографии скоро будут готовы. Хочешь посмотреть?
— Нет.
Мамин голос, тихий, озадаченный:
— Нет? Не хочешь?
— Нет, — сказал я.
— А они получились превосходно. Особенно та, где ты на вышке для прыжков. Вместе с Эдгаром. Ты самый загорелый из всех.
— Откуда ты знаешь? Фотографии-то черно-белые.
— В этом году они цветные.
— Не хочу я их смотреть.
Мамина рука вдруг задрожала. И тотчас опять успокоилась.
— Все хорошо, — прошептала она. — Жара больше нет.
Тут что-то произошло, то есть, вернее, не произошло.
Я открыл глаза, огляделся.
— Слышишь? — спросил я.
— Что?
— Совсем тихо.
Секунду-другую мама прислушивалась.
— Да, в самом деле.
Во всем доме ни звука, ни от камней, скользящих по навощенному линолеуму Тома Кёрлинга, ни от бутылок, катающихся по овальному столу Гундерсена, а главное, не слышно свиста, совсем не слышно, ни малейшего писка, Свистун больше не свистел, последнее «que sera sera» слетело с его губ, и домашнюю оперу сняли с афиши.
Прибежал и отец, встревоженный кассир в пижаме.
— Что происходит? Мальчик заболел? Надо вызвать врача?
Мама повернулась к нему, покачала головой:
— Ты разве не слышишь?
— Нет. А что?
— Тихо совсем.
Отец остановился, глянул по сторонам и широко улыбнулся, будто обнаружил доселе неведомую цифру, за пределами всех рядов.
— Ты когда-нибудь слыхала такое?
Теперь мы можем спать в Шиллебекке как ангелы в раю.
Свистун наконец утихомирился.
Позднее нам рассказали историю, которую вскоре знала вся округа, правда в весьма разных версиях, потому что, хотя конец в принципе всегда был одинаков, рассказы разнились касательно точного развития событий, их примечательного хода, но вот этот вариант, во всяком случае, мой, и я могу за него поручиться где угодно и перед кем угодно: Свистуна жестоко избили. В тот самый день. По обыкновению, он пошел к Западной дороге. Любил стоять на Ратушной площади и свистеть. Дело в том, что там совершенно особенный резонанс, а вдобавок он мог потягаться с самим фьордом, если говорить о силе и упорстве. У светофора, между винным магазином и американским посольством, ему пришлось остановиться: горел красный свет. Одет он был в свое обычное серое осеннее пальто, длинное, почти по щиколотку, в черную шляпу с высокой тульей и белый шелковый шарф, небрежно обернутый полтора раза вокруг шеи. Одни говорят, что он стоял в ожидании зеленого сигнала и насвистывал «Zwei kleine Italiener». Другие столь же уверенно твердят, что в эти судьбоносные минуты на исходе октября 1965 года он насвистывал на Драмменсвейен неотразимый классический хит «Singin' in the Rain», хотя дождь не шел, напротив, светило солнце, тот день можно прямо-таки назвать бабьим летом. Лично я совершенно убежден, что он насвистывал «Que sera sera». Свистун, стало быть, насвистывал «Que sera sera», и тут рядом с ним остановились два дюжих мужика, оба с тяжелыми пакетами из винного, и многие утверждают, что оба уже изрядно зашибли муху, как в ту пору говаривали в Шиллебекке, но, по-моему, это совершенно неправдоподобно, ведь в таком разе они бы не стали покупать по две бутылки трехзвездочного бренди, а именно так они только что и поступили.