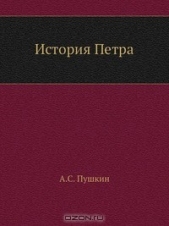Охота

Охота читать книгу онлайн
Впервые на русском языке последний роман знаменитого французского писателя и биографа Анри Труайя.
1869 год. Больше тридцати лет прошло после смерти Пушкина. Но до сих пор почитатели его таланта не могут смириться с ранней и нелепой гибелью величайшего из поэтов. Выпускник лицея Императорского Царского Села Александр Рыбаков одержим безумной идеей: цель своей жизни он видит в выполнении важнейшей и безотлагательной, поистине сверхъестественной миссии: уничтожить убийцу Пушкина. Он уверен: этот благородный поступок исправит ошибку судьбы, и с помощью его свершится священный акт возмездия. Узнав о том, что Жорж Дантес ведет блестящую жизнь сенатора Второй Империи в Париже, молодой человек очертя голову бросается туда и начинает охоту. Но кому собирается отомстить наш герой — жестокому преступнику, ничуть не задумывающемуся о содеянном, или случайному убийце, кающемуся грешнику, человеку, непременно желавшему защитить свою честь?
Анри Труайя — знаменитый французский романист и биограф, выдающийся исследователь исторического и культурного наследия России и Франции. Труайя создал более сотни книг. «Едва я закончу роман, как меня увлекает новый», — признавался автор, отличавшийся исключительной трудоспособностью. Писатель был удостоен Гонкуровской премии за роман «Паук», избран членом Французской Академии, награжден Большим крестом Ордена Почетного Легиона и другими наградами. Будучи русским по происхождению, связав все свое творчество с Россией, Труайя завоевал необычайную популярность в нашей стране.
Роман, который читается быстро и легко, но с истинным наслаждением. Здесь нет ничего лишнего, каждая деталь четко встраивается в общий ход повествования и открывает путь нравственного развития героев. Эта история не нравоучительна, но, прочитав ее, каждый получит массу пользы и удовольствия.
www.evene.fr
Страшная гибель самого великого из русских поэтов той эпохи настолько потрясла его соотечественников, что безумные фантазии выдуманного мной юного поборника справедливости вполне могли и в реальности оказаться характерными для его современников и земляков.
Анри Труайя
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На этот раз месье Мондвиль также повысил голос, но лишь для того, чтобы поддержать своего собеседника. Затем они перешли на шепот. Приложив ухо к притолоке, я улавливал отдельные слова и по ним смог догадаться, что барон и его посетитель поздравляли друг друга с избранием месье Руше президентом Сената, оплакивали декрет об амнистии политическим преступникам и правонарушителям, приветствовали церемонию инаугурации Суэцкого канала и воспевали Папу за постоянное подтверждение авторитета Церкви и вынесенный им приговор социализму…
Все это было так далеко от Пушкина… Земля продолжала вертеться так, словно вообще ничего не произошло, и лишь я один отказывался забыть мимолетное пребывание поэта на земле, его промельк среди нас! Но вот мои сограждане… большинству моих сограждан было достаточно маленьких сегодняшних радостей, и они отстранялись от глубокой боли прошлого. Только я упрямился в желании существовать бок о бок с призраком. Они настораживали уши исключительно ради мирской суеты, тогда как я за этими пустыми никчемными звуками ясно различал голос певца, молящего об отмщении. Верный могиле, я чувствовал себя живым анахронизмом и гордился собой.
Наконец господин Мондвиль удалился, и Жорж Дантес вошел в мой «кабинет». Настроение у барона было радостным. Разговор с коллегой приободрил его.
— Превосходный человек! — заявил он с порога. — Ясный ум и горячая кровь. Однако, на мой вкус, несколько робок, когда речь заходит о систематически проявляющейся снисходительности власти к тем, кто недостоин такой снисходительности. Скорее всего, вам показался бы интересен наш обмен мнениями о пауперизме… Покажите-ка мне вашу работу…
Я протянул ему несколько листков, он пробежал их глазами, приговаривая:
— Отлично, отлично…
Мне казалось, будто я в пять минут досконально узнал этого человека и мог вынести непогрешимое суждение о нем: законченный и непроходимый реакционер, непримиримый враг всякой свободы и всего нового… Больший империалист, чем сам император Наполеон III. Но мог ли я порицать его за это? Я — приехавший из страны, где порядок имел усатое лицо жандарма! По традиции, по обычаю, унаследованному от предков, мы, русские, не обсуждаем решений, принятых наверху.
А Дантес вдруг вздохнул, поглядев в потолок:
— Я вот задумываюсь, а не стоит ли мне теперь записать свои мемуары… Есть столько событий, о которых надо бы рассказать, столько неясностей, требующих пролить на них свет, столько великих людей, заслуживающих того, чтобы о них вспомнить…
— О, как это было бы увлекательно! — подхватил я до того услужливо, что сам испугался.
— Вы правы, — согласился он, рассмеявшись. — Но это титаническая работа. Мои дни и так заполнены и переполнены донельзя. Однако в случае, если решусь, непременно прибегну к вашей помощи и приготовлю для вас документы.
— С огромной радостью займусь этим! — заверил я.
И я не лукавил, я думал: «Если он и впрямь захочет сказать все и обо всем, ему придется говорить и о Пушкине, и о Натали, и об анонимных письмах, и о дуэли… А тогда мой акт отмщения станет заслуживать еще большего уважения и тогда он произведет еще большее впечатление. Это будет настоящий взрыв!»
Он положил бумаги на стол, повернулся к двери, но через плечо добавил:
— Правда, до этого пока далеко! До свидания!
Дантес вышел, а я стоял растерянный — и нежданно-негаданно свалившейся мне на голову возможностью сотрудничества, и тем, как оно сразу же было отринуто. Собрался уходить сам, но тут явилась мадемуазель Корнюше со свертком в руках. Оказывается, Изабель принесла мне кусок эльзасского пирога, чтобы скрасить на следующий день завтрак.
— Знаю, что вы любите этот пирог, — прошептала она, опустив глаза долу, — ну и подумала…
Я поблагодарил, а экономка продолжила, воодушевляясь по мере произнесения своего монолога:
— Вам так плохо здесь!.. Вам не хватает воздуха!.. Вы не видите дневного света!.. Это бесчеловечно!.. И я все думаю, разве вам было бы не лучше, если бы перебрались повыше? Рядом с детской есть совершенно свободная комната — очень приятная, очень светлая… Я могла бы переговорить с господином бароном…
— Ну что вы, ну что вы, ни в коем случае! — возразил я, на этот раз даже не поблагодарив добрую женщину за заботу. — Я предпочитаю оставаться здесь: рядом с кабинетом, рядом с месье дʼАнтесом!.. Из… из удобства… Эта близость бывает необходима при решении… при решении ряда проблем в моей работе…
— Вы весьма серьезный молодой человек, весьма надежный, господин Рыбаков! — заметила она. — Поздравляю вас с этим.
Изабель посмотрела мне прямо в глаза, заглянула так глубоко, словно хотела выразить признательность за то, что я так привязан к ее хозяину. От волнения она стала красивой, несмотря на мелкие морщинки по векам и поблекший цвет лица. Но больше нам нечего было сказать друг другу. Вероятно, ей казалось, что мы сообщники, союзники в почтении к господину барону. Столь неверная оценка мне претила, но одновременно мне было жалко хорошего человека… Наконец мадемуазель Корнюше прошептала:
— Все! Я ухожу!
И исчезла, серенькая и легкая, как мышка, живо ускользающая в нору после того, как побывала в мире людей. А я с того дня получил право на ежедневный ломоть эльзасского пирога к завтраку.
Неделей позже, когда я находился в кабинете Жоржа Дантеса, показывая ему перевод нескольких вырезанных из газет материалов, явился лакей и объявил о визите инспектора полиции Вокура. Услышав слова «инспектор полиции», я невольно вздрогнул, разволновался, пусть даже внешне и незаметно. А Жорж Дантес, явно ожидавший этого самого инспектора, сказал мне с видом более чем непринужденным:
— Прошу прощения, однако я вынужден попросить вас меня оставить. — Обращаясь к своему лакею, прибавил: — Попросите инспектора Вокура зайти. — И больше не обращал на меня никакого внимания.
Я вернулся в свой уголок. В животе прочно поселился страх, от него даже холодело все внутри. Неужели полиция узнала — но от кого?! — о моих тайных намерениях? Не явился ли инспектор арестовать меня, чтобы я не смог осуществить преступление? Внезапно я почувствовал себя ужасно одиноким и ужасно уязвимым. Еще бы! А каким себя чувствовать лицом к лицу с колоссальной правительственной армией, чья задача — только репрессии? Все ищейки России гонятся за мной по пятам! Стоит мне выйти из этой каморки, мне тут же закуют руки в кандалы, и я закончу жизнь в темнице, даже не получив удовлетворения, даже не утешившись местью, не успев прикончить Жоржа Дантеса… На самом деле, я был готов к тому, что может случиться такое. Но я не мог себе представить, что не успею даже совершить покушения. Да, меня не пугала жизнь в неволе. Меня не пугала гильотина. Неминуемость смерти обратилась для меня в смысл жизни. Впрочем, наняв хорошего адвоката, можно было бы и смертной казни избежать. Разве так не случилось с этим поляком, Березовским, который покушался на жизнь царя, когда его величество приезжал в Париж? К тому же сенатор — не император, вес куда как не тот. Снисходительность суда мне уже и сейчас обеспечена. Даже, наверное, и срок скостили бы за примерное поведение… Ну и отбыв в течение нескольких лет не слишком строгое наказание, я нес бы двойной ореол: героя и мученика. Но для всего этого надо ведь было прежде нанести удар! А необъяснимый визит этого инспектора Вокура ставил под сильное сомнение всякую для меня возможность прославиться в веках.
Свидание инспектора полиции с Дантесом опасно затянулось. Я даже и не пытался подслушивать. Моя судьба решалась рядом, в двух шагах от меня, а ни единого средства проникнуть в кабинет и предотвратить катастрофу не было. Сидя в своей душной каморке, заваленной бумажными грудами, я чувствовал себя загнанным в мышеловку. Хуже того: в ловушку, из которой выйду в наручниках. Сердце то замирало, то начинало как-то противно дрожать. В панике я начал было подумывать о том, нельзя ли сбежать через другую дверь — ту, что выходит в коридор, но только собрался подойти и открыть ее, вошла мадемуазель Корнюше со своим неизменным подносиком. Наступил час вечернего чая. Я пробормотал, что не хочется, что не голоден, что не испытываю жажды, что мне нужно уйти, — она забеспокоилась: