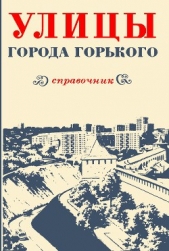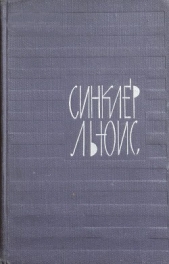Голем, русская версия

Голем, русская версия читать книгу онлайн
События романа Андрея Левкина «Голем, русская версия» — ограничены пределами безымянной московской улицы. Однако в этом камерном пространстве, как в безупречном кристалле, отразилась судьба всего российского общества на сломе эпох: усталость, любовь и косность, страх перед непривычным будущим и эфемерная надежда.
Роман как разговор с собой, неторопливый и спокойный, мягкое упорядочивание реальности, кирпичик к кирпичику, осторожно, с мольбой: будь такой, а не эдакой, пожалуйста — пожалуйста — пожалуйста. Отсечь от мира, как он есть, всё ненужное, оставить одну улицу, заселить её близкими тебе людьми, чтобы волей-неволей им пришлось знакомиться, изучать друг друга, друг к другу привыкать, выбирать себе из замкнутого этого круга друзей, врагов и любимых. Они будут думать твои мысли, чувствовать твои чувства, жить твоей жизнью, говорить твоим языком, они вочеловечатся в полной мере — а ты останешься в стороне, ты станешь големом среди людей, никому не свой, сам себе создатель.
Роман как сказка, грустная и красивая.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сейчас тут было пусто, только за столом рядышком на лавке сидели, поблескивая маленькими баночками, двое привычных забулдыг — день у них начинался хоть и поздно, зато неплохо. А так было пусто, лето еще длилось, дети еще болтались где-то за городом, а кто остался в городе, так они выбирались за приключениями в его иные части. Сегодня снова было жарко, но уже чувствовалось, что немного не по-летнему начинает пахнуть сырая зелень и земля.
В первом этаже левой ноги П жила местная и не только местная знаменитость— толстый актер, игравший всяческих забубённых и толстых забулдыг. В быту, разумеется, забулдыгой он вовсе не был, зато ругался, когда в окрестностях его окон начинали стукать мячом. Ему подошло бы играть какого-нибудь детектива — из тех, кто сидит дома и оттуда распутывает все на свете. Может, он его и играл, откуда знать. Хотя вряд ли, такие типажи особо не в ходу.
Еще там однажды была загадочная тайна: в центральной части дома имелись полуподвалы, в одном из которых некогда, когда сугробы были выше моего роста, находилась артель или что ли комбинат надомного труда — так эти организации когда-то назывались. Может быть, там инвалиды работали. Или вообще слепые, раз уж в полуподвале. Нет, слепых бы мы, наверное, отметили. Потом они оттуда — очень давно было — выехали, и только тогда мы выяснили, чем там занимались: забрались туда, когда они съехали. Там, оказывается, делали игрушки. Самые дурацкие, например черных кошек — пластмассовых из отдельных сочленений, стоят на стакане, дно которого можно нажимать. Если нажать— кошка складывается, подламывается всеми лапами, а отпустишь дно стакана — тут же собирается, встает обратно. Готовых кошек мы там не нашли, были только их головы, куча маленьких черных кошачьих голов. И несколько белых. Они даже и раскрашены не были. То есть глаза не подкрашены белым, рот красным. Какая-то игрушечная ерунда там еще была, заготовки. Но уже не вспомнить. Да, мы тогда решили, что там можно отыскать железную дорогу — детскую, с поездом, вагончиками, станциями и шлагбаумами. Нет, не нашлась. Так что и запомнилось прежде всего про кошек. А сам дом был пятиэтажный, потолки высокие, оштукатурен чем-то темным. Возможно, конечно, это городские сажа и копоть, а на самом деле он был каким-нибудь бежевым.
Дома у Куракина
Здесь Куракин и жил в третьем этаже, вполне по-барски. История его жизни была бесхитростной: он работал когда-то на научных должностях, как перебивался в начале 90-х — особо не знаю, сам не благоденствовал, так что не было времени интересоваться другими. При этом он переводил фантастику, а потом — удачно, кажется, совпав со своей психической структурой — ушел в журналисты, их тогда требовалось много. В самом деле, в этой профессии ему было совершенно не нужно помнить, с кем и о чем он говорил накануне, а он этого как раз и не любил. Мы с ним познакомились во времена научно-технической деятельности в одном из занюханных отраслевых НИИ, Машиностроения торгового оборудования что ли, бытовавшего в стандартном ниишном пенале (очень плоский длинный дом в шесть этажей, бетон-стекла, с вечно ломающимися лифтами и линолеумом в коридорах) на улице Шереметьевской, в густых зарослях под мостом на Останкино. А уж когда оказалось, что мы на одной улице живем, то отношения стали почти родственными.
Тогда, аккурат в начале перестройки с сопутствовавшим ей кооперативным движением, он пристроился к какой-то переводческой фирме, которую сделали его то ли родственники, то ли одноклассник. Тогда, разумеется, переводили фантастику. Как старший товарищ, с которым мы долгие годы (лет восемь, не меньше) просидели в одной служебной комнате, — он объяснил мне, что времена, когда к печатному слову относились трепетно, прошли, из чего вытекает, что париться над одной книгой не только год, а и полгода — неправильно, тем более что париться там не над чем, не для того эти книги писаны. Сам он впоследствии решил, что переводы ему не подходят, и ушел в газетчики. А я на этом глупом деле так и прозябал. Эх, в самом деле-то, кем бы мы могли стать, не окажись такими раззявами и сообрази в начале судьбоносных перемен научиться себя предлагать, а не ждать, что в неведомое счастье засосет просто ходом времени и проч.
Понятно, чего ему не сиделось за переводами, он был не то чтобы непоседливым, но все время проваливался в какое-то свое пространство — по причинам, которые от него и не зависели вовсе. У него там внутри что ли время быстро шло или все предыдущее как-то быстро стиралось — возможно, какая-то эмоциональная память была слабой, так что жизнь его выглядела, если со стороны поглядеть, дерганой — что касается, например, связей. Попрыгунчик какой-то получался, против своей воли.
Причем он явно не испытывал никаких прежних привязанностей — то есть мог относиться к бывшим знакомствам вполне дружелюбно, но вот какой-то нити, связывавшей его с другим человеком, которая возникала бы от прожитого вместе времени и общих дел, он не ощущал. Будто бы из своих уходов-переходов неизвестно куда он возвращался другим человеком, то есть — существовал будто и не здесь. Но и там, где он существовал взаправду, бывал редко, заходя туда только переодеться, сменить пристрастия. Вот и его биография была дырявой что ли.
Планы поговорить о Распоповиче были отменены видом хозяина: ну ладно, он был в костюме, это еще привычно, так еще — в белой рубашке и галстуке. Иногда я, конечно, его таким видел, но это было еще в пору нашей трудовой деятельности на благо научно-технического прогресса.
— Ты это что? — честно изумился я.
— Чай пью, — ответил он. — Присаживайся. Есть как раз тульский пряник, на двоих хватит.
— Да нет, выглядишь…
— А, это… — он постарался реагировать как бы легкомысленно. — Я на интервью иду. Мне к шести.
— У кого? — Странно, надевать на интервью белую рубаху? Это было за гранью моего понимания журналистики. Разве что к премьеру, да и то…
На кухонном столе кроме чая стоял еще и твердый дезодорант "Олд спайс", что объясняло причину не столько странного, сколько непривычного запаха, исходившего от Куракина. Это было уже явно слишком.
— Нет, на интервью в смысле собеседование. Хочу в фирму пристроиться. Сколько же можно репортером бегать.
Известие было неожиданным, и я замялся.
— В самом деле, — пробормотал я. — Мне всегда было интересно, куда потом деваются старые журналисты. Ну, не великие, а обычные.
— Куда-куда… Туда и деваются, — пробурчал он, из чего явно следовало, что это самое "туда" он на днях представил себе весьма конкретно.
— И куда теперь? То есть — кем?
— Типа в пиарщики. Есть такая стройфирма что ли, все подряд воздвигает. Под названием примерно "Хуев хрен".
— Думаешь, успеешь карьеру сделать?
— Возраст-то уже не тот, конечно. Но если подумать, а кто ее в 90-е сделал? Специальный же контингент, а остальные то тут перехватят, то там на год-другой зависнут, вот и все служебное продвижение. А потом все сначала. Нет упорядоченности потому что. Ну что ж, на год пристроюсь, посмотрим, что дальше. Может, как-то зацеплюсь.
Трудно было не разделить его мыслей. Я думал примерно в эту же сторону, но мне настолько был приятен мой образ жизни дома, что мысль о том, что надо будет — хоть и в целях стабильности — ходить на службу, да еще подчиняться каким-то требованиям и правилам, меня ломала. То есть жизнь была устроена лучшим образом, но будущее все-таки беспокоило. Но лет пять еще бьио — будем считать, что они и станут лучшими в моей жизни, ну а уж потом приступим готовиться к старости, потому что какая у нас тут пенсия впереди…
— Слушай, — спросил я его, — а тебя не ломает, что надо будет в галстуке ходить, к полдесятого на службу? Когда ты это последний раз делал?
— Давно, — ответил он, — настолько давно, что уже и опротивело не ходить. Вообще, знаешь, — он вздохнул, — где-то в самом начале жизни была допущена ошибка.