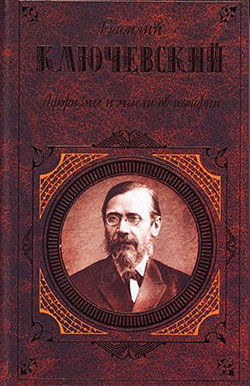Седьмая картина

Седьмая картина читать книгу онлайн
Некто дьявольского облика заказывает художнику, некогда известному и обеспеченному, но впавшему в нищету, картину на тему «Последний день России». Отчаявшийся живописец вкладывает в этот апофеоз катастрофизма весь свой немалый талант, но созданная им картина исчезает, остается чистый холст: у России не будет последнего дня.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– А, это ты, – сказала она Василию Николаевичу так, как будто они только вчера расстались.
– Я, – с трудом унимая все еще дрожащее, бунтующее сердце, ответил Василий Николаевич. – А вы меня помните?
– Отчего же мне тебя забывать, – вроде бы даже как и обиделась бабка. – Картины малюешь. Заходи в дом.
Миновав довольно просторные рубленые сенцы, они шагнули в дом, в горницу (светелку, как ее, помнится, всегда называла бабка Матрена) и присели друг против друга на широкой лавке.
– А я поначалу думала, – повинилась все же перед Василием Николаевичем бабка, – это опять Земледелец.
– Что еще за Земледелец? – не смог сдержать улыбку Василий Николаевич. Бабка Матрена всегда говорила немного забавно, иносказательно, так, как нынче никто уже не говорит.
– Да бывший наш партейный секретарь. Он теперь тут у нас главный земледелец. Ждет не дождется, когда помру.
– Чего ж так? – поддержал разговор, посочувствовал бабке Матрене Василий Николаевич.
– Сад-огород ему мой глянулся. Говорит, перелетывай, бабка, в Сафоново, поближе к шляху, я тебе там дом куплю, а это место уступи. Во какой хожий!
– А вы? – восхитился стойкостью бабки Матрены Василий Николаевич.
– Я что?! Старая, дубленая, – вздохнула, пригорюнилась бабка. – Здесь родилась, здесь и помру. Но покоя мне не дает, все коршуном, все вороном надо мной кружит.
Василий Николаевич примолк, не зная, чем тут можно подсобить, помочь девяностолетней бабке, которую сживает со свету бывший партийный секретарь, радетель ее и защитник, а нынче, небось, какой-нибудь раздобревший фермер, земледелец, которому такие вот не по годам зажившиеся бабки одна помеха и убыток.
– Ты ночевать будешь или так, наскоком? – поняла, кажется, заминку Василия Николаевича бабка Матрена.
– К вечеру уеду, – не смог выдержать характера Василий Николаевич, хотя поначалу, еще в городе, загадывал пожить у бабки и день, и два, походить на этюды и, главное, повторно написать ее саму. В центре картины, среди других фигур ему виделась именно такая старуха, просветленная, молчаливая.
Но сейчас, глядя на бабку Матрену, на ее березовый сучковатый посошок, на ее высохшее, уже почти потустороннее лицо, он вдруг понял, что писать ее не будет, потому как нет в ней прежнего молчания и прежней светлости. Что-то надломилось за эти годы в бабке Матрене, потухло, разрушилось, как разрушился такой еще крепкий и несокрушимый десять лет тому назад ее дом. А коль так, то и нечего здесь долго задерживаться, вести с бабкой невеселые стариковские разговоры, надо двигаться дальше, в соседнее болотистое сельцо – Иванову Слободу. Там на кордоне у Василия Николаевича тоже есть один хороший знакомый, егерь и одногодок, Егор Степанович, мужик хозяйственный, крепкий, гроза всех окрестных браконьеров и порубщиков.
Бабка Матрена заходилась было кормить Василия Николаевича обедом, взялась за ухваты, но он, немного лукавя, остановил ее – сыт, мол, накормлен и напоен в другом месте. Бабка вернула на место ухваты, опечалилась и в печали сказала сущую правду:
– В другой раз заедешь – не покормлю, под осинами буду лежать.
– Ну что вы, бабушка Матрена… – попробовал утешить ее Василий Николаевич.
– А то нет! – отвергла его утешительство бабка. – Тут Земледелец будет хозяйничать, от меня и следа не останется.
Василий Николаевич не нашелся, что ей на это ответить, посидел на лавке еще минуты две-три, а потом, опять лукавя и хитря, озабоченно глянул на часы и стал прощаться:
– Может, вам привезти чего?
Бабка тоже на минуту задумалась, глянула далеко в окошко и вдруг спокойно и обыденно попросила:
– Досок на домовину привези, а то Земледелец в одной рогожке похоронит.
Тут уж и вовсе Василий Николаевич не отыскал никакого ответа, а лишь приобнял бабку за плечи и едва не заплакал от простых ее, будничных слов о скорой смерти. Он вдруг почувствовал, как безмерно устала бабка Матрена жить, бороться с болезнями-хворобами, с непогодой – зимой с морозами и вьюгами, летом с жарой и ливнями, – с алчным Земледельцем, который каждодневно кружит над ней коршуном и вороном. И как же далек теперь от бабки Матрены тот светлый пасхальный день, Великдень, когда она, вернувшись из церкви, сидела на лавочке в праздничном белом платочке и фартуке. И точно так же далек этот день, наверное, и от самого Василия Николаевича…
К Ивановой Слободе Василий Николаевич подъехал уже почти в сумерках, немало попетляв по бездорожью, подтаявшему снегу и наледи. Настроение его начало вроде бы понемногу выправляться и в ожидании встречи с Егором Степановичем, глядишь, выправилось бы совсем. Но вдруг в одно мгновение все порушилось, омертвело, душа вновь наполнилась темнотой и страданием. Вывернув из густого ельника к торфяному болоту, на краю которого и стояла Иванова Слобода, Василий Николаевич, словно перед неожиданно вспыхнувшим красным светом или перед каким-либо иным неодолимым препятствием – пропастью, каменной стеной, людским потоком, – сколько было сил, нажал на тормоза. Вместо болота с вечными штабельками и пирамидами торфа (тут с незапамятных времен были торфоразработки) простиралась до самого горизонта гарь. Кое-где ее засыпало снегом, но от этого зрелище было еще более удручающим: белые снежные островки лишь подчеркивали черноту выгоревшего камыша, лозовых зарослей и остатков торфяных пирамид. Раньше всегда живое, наполненное людскими голосами болото теперь было мертвенно-унылым, одичавшим и чем-то напоминало Василию Николаевичу зловещую коричнево-бурую зону из кинофильма «Сталкер». Отчего тут, на торфоразработках, случился пожар (от человеческой ли неосторожности, от баловства или от злого умысла), Бог его знает, но чувствовалось, пожар был страшным и опустошающим. Василий Николаевич несколько раз видел, как горят торфяные болота. Вначале занимается прошлогодний высохший камыш; ветер, раздувая огонь, несет его вал за валом по всему пространству, легко переметываясь через топкие канавы, ручейки и озера. Гудение пожара слышно за несколько километров, наводя страх на жителей окрестных деревень; черная пелена дыма застилает небо и землю, застит дневной свет и, кажется, достигает самого солнца. Но потом вдруг все мгновенно стихает: огонь уходит в землю, в торф, где его уже ничем не достанешь, никак не погасишь. Гореть торфяные болота могут годами, то воспламеняясь, выкидывая на поверхность в самых неожиданных местах высокие столбы, протуберанцы пламени, то опять уходя вглубь, чтоб там затаиться и выжечь все до основания.
Василию Николаевичу показалось, что в нескольких местах болото действительно тлеет и над обгорелыми корягами лозняка вьется сизый торфяной дым. За этим дымом в надвигающихся сумерках слободских хат и Егорового кордона не было видно. Василий Николаевич посчитал это просто обманом зрения: хаты и кордон должны были где-то существовать, надо только не стоять на месте, а двигаться к ним навстречу, и они обязательно обнаружат себя неожиданно вспыхнувшим огоньком, человеческими голосами, лаем собак, мычанием и ревом скота.
Василий Николаевич так и сделал: заново завел заглохнувшую было машину и по обочине болота стал пробираться к селению, чуя, что оно живо и лишь обманно затаилось по извечной деревенской хитрости и осторожности.
Но на этот раз чутье Василия Николаевича обмануло. Когда он, опасно петляя по заброшенной, мертвой какой-то дороге, добрался наконец до первых слободских дворов, то пришел в страх и смятение еще большие, чем при виде выгоревшего, одичавшего болота. Ни одной уцелевшей, способной встретить его живым огоньком и человеческим духом хаты он не обнаружил. Пожар, по-видимому, налетел и сюда, в слободу (а может быть, отсюда как раз и начался), и подобрал все подряд, без разбору: крепкие рубленые дома, сараи, повети; неостановимой лавой прошелся по садам и огородам. Тушить его было некому, потому как в слободе, точно так же, как и в недалеких Синичках, жили одни старики да старухи, заброшенные, забытые начальством. Да и самого начальства здесь, поди, по нынешним временам днем с огнем не отыщешь. Оно все преобразовалось, перекрасилось в земледельцев, в фермеров, кружит над такими вот деревеньками коршунами и воронами, прибирая их к своим рукам. Мужик тут был один лишь Егор Степанович, но что он мог сделать слабыми своими силами. Пожарных машин в слободе сроду не водилось, они все где-то там, на центральной усадьбе, в Сафонове. Вернее, на бывшей центральной усадьбе, потому что ныне почти повсеместно нет ни центральных, ни бригадных усадеб – всюду разруха и запустение. Зато, как грибы после дождя, растут настоящие помещичьи усадеб, дворцы и терема вдоль шоссейных людных дорог. Но там иные, не крестьянские люди, иные порядки…