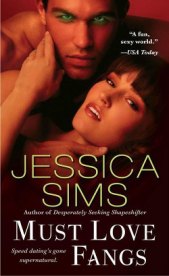Любить

Любить читать книгу онлайн
Знаменитый бельгиец Жан-Филипп Туссен, один из самых утонченных прозаиков рубежа тысячелетий, лауреат элитарной французской премии Медичи 2005 года, чемпион мира по интеллектуальной игре в «скрэббл», кинорежиссер, фотограф и литературный экспериментатор, покорил мир двадцать лет назад бестселлерами «Ванная комната» (1985) и «Фотоаппарат» (1988). С тех пор его романы переводятся, как только выходят в свет, сразу на десятки языков, по ним снимаются фильмы. Туссена считают лидером целого направления европейской прозы, которое называют «новый „новый роман“».
Действие романа происходит в Токие. В его фокусе — разные этапы отношений главного героя с любимой женщиной и с миром. Хрупкое, вибрирующее от эмоционального накала авторское письмо открывает читателю больше, чем выражено собственно словами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В такси, катившем по направлению к «Контемпорари арт спейс» в Синагаве, я взял Мари за руку, легонько сжал, почувствовал кожей тепло ее пальцев. В салоне установилась какая-то гнетущая атмосфера, дождь хлестал в окна, щетки равномерно шастали туда-сюда по ветровому стеклу. Никто не произносил ни слова. Ямада Кэндзи сидел впереди рядом с водителем, он назвал адрес музея и погрузился в созерцание разграфленных в клеточку розовых карточек у себя на коленях. Представительница французской дипломатии вдумчиво глядела в окно, она тоже молчала, слезы Мари ее озадачили.
До входа в музей надо было пройти метров сто пешком вдоль ограды из нетесаного камня. Такси высадило нас наверху, у начала тропы, на пустынной стоянке какого-то отеля. Наша группа, собравшись в полном составе (прочие подъехали на другом такси), тронулась в путь под мелким дождичком по дорожке, умощенной неровными и скользкими камнями, змеившейся между деревьев в сторону озера. Мы продвигались черепашьим шагом под прикрытием двух огромных, хорошо заметных в тумане зонтиков, ярко-голубого и ядовито-зеленого, их с неловкой услужливостью держали двое юных сотрудников «Спайрал», семенивших по бокам от нас, вытянув руки над нашими головами. Притаившийся за широкими металлическими воротами с электронным управлением (красный глазок лазера, камера видеонаблюдения), этот Музей современного искусства не вписывался в окружающий как бы сельский пейзаж с большими деревьями, озерами, замшелыми тропинками, кустарником и даже птичьим щебетаньем и лягушачьим кваканьем вдали. Красовавшееся посреди аккуратного парка продолговатое, обтекаемой формы белое строение, покрытое волнистыми алюминиевыми пластинами, походило на авиационный ангар или лабораторию высоких технологий. Дверь из полупрозрачного стекла вела в холл черного мрамора, где мы прождали несколько минут, прежде чем были приняты директором — бороденка соль с перцем, рябенький в тон к ней пиджак и поразительные кричащие белые «пумы» со стилизованным изображением на каждой ноге упомянутого хищника, который только и ждет случая, чтобы спрыгнуть с его пяток Через не замеченную мною поначалу дверь директор провел нас в служебные помещения музея и пригласил в свою личную гостиную, смежную с комнатой наблюдения, где виднелись в полумраке ряды мониторов. Мы расселись на диванах вокруг низкого черного полированного стола, и тотчас откуда-то сзади возникла юная служительница с подносом, на котором принесла нам зеленый чай. Она поставила перед каждым по чашке и безмолвно исчезла. Никто из пришедших с нами не говорил ни слова, не улыбался. Их пыл остудили слезы Мари, и только вальяжно скрестивший ноги директор выглядел на своем канапе расслабленным и даже веселым. First time in Japan? [12]— зычным голосом спросил он у Мари. Ответа не последовало. Мари сидела не двигаясь, в солнечных очках с очень черными стеклами, и упрямо смотрела перед собой, словно бы вопрос адресовался не ей, непонятно даже, слышала ли она его. Нет, произнесла она наконец по-французски безо всякого над собой усилия. Присутствующих снова обдало холодом, все заерзали, но вопросов больше никто не задавал, беседа закруглилась. Я хотела бы осмотреть залы, сказала Мари.
По огромному пустому выставочному залу Мари шла одна, на несколько метров впереди всех, в длинном черном кожаном пальто, в поднятых на лоб солнечных очках, с еженедельником в руке. В определенном смысле она добилась чего хотела, окружила себя тишиной и почтением, необходимыми ей для сосредоточенной работы, добилась слезами и сухостью тона, а не улыбкой превосходства, какой она обычно осаживала собеседников (улыбка, понятно, действовала эффективнее, но использовать ее сегодня Мари недоставало сил или, может, гибкости), и результат был налицо, все держались настороже, никто не осмеливался к ней подступиться или заговорить, она погрузилась в свои мысли, как если бы находилась в музее одна. Мы следовали за ней на расстоянии, разговаривали вполголоса, скованные и пустотой просторных залов, где гулко отдавались наши шаги по паркету, и исходящими от Мари силой, решительностью и тишиной. Выставочные помещения музея общей площадью около трехсот метров состояли из четырех залов (A, B, C, D) различной формы: два прямоугольных, один пятиугольный и еще один восьмиугольный, самый маленький занимал шестьдесят квадратных метров, самый большой — сто десять. Белые совершенно пустые, ошарашивающие своей обнаженностью залы купались в каком-то туманном свете, проникавшем через узкие отверстия в крыше, сквозь которые проглядывало бурное, серое, в теснящихся дождевых тучах небо. Слабость естественного освещения восполнялась искусственным: замысловатые приспособления в виде ряда подвижных прозрачных цилиндров, укрепленные на верхней части карниза, излучали теплый янтарный свет, какой бывает у национальных японских фонарей.
Мари остановилась в центре самого большого зала. Вынула листочек из еженедельника и, используя последний как пюпитр, одна среди белых стен (только я приблизился к ней на несколько шагов, прочие же, потоптавшись на пороге, развернулись и оставили ее работать), принялась чертить общий план музея, прямоугольники залов и еще непонятные мне квадратики и стрелочки. Время от времени она поднимала голову, что-то обдумывала, вглядывалась в голые стены, словно бы черпая из них вдохновение, и дополняла свой эскиз, проводила стрелки, писала слова заглавными буквами и подчеркивала где однократно, а где двойной линией. Я вышел из зала и в холле догнал нашу группу. Директор пригласил нас подняться на второй этаж, по стеклянному переходу над холлом мы добрались до не поддающейся описанию комнаты, где хранилось необъятное и невидимое собрание выставочных каталогов и художественных журналов, упрятанных в продолговатые японские ящички из белого дерева, которые директор устало вытаскивал один за другим, объясняя нам попутно, что в них лежит. Я глядел, как он движениями ленивого фокусника открывает и закрывает ящики, и думал о другом (я устал, меня познабливало).
Мы вернулись в гостиную, с которой начали свой визит, кто-то сел выпить еще чаю и поговорить, кто-то остался стоять, задумчиво листая каталоги. Я расхаживал туда-сюда, разглядывал афиши выставок, потом сунул нос в комнату видеонаблюдения, где спиной ко мне сидел за компьютером молодой человек В темном помещении светились лишь сигнальные лампочки и пульты управления, оно напоминало студию миксажа или мультимедийного монтажа, на экранах полутора десятков камер застыли сероватые черно-белые картинки. Приглядевшись, я разобрался, что верхний ряд экранов соотносится с камерами, охватывающими ближние подступы к музею, две из них, установленные на воротах, снимали туманный, словно заснеженный вид спускающейся к озеру тропы, две другие помещались возле входной двери, одна — объективом к сникшему от дождя парку, другая — в черный мраморный холл, последняя фиксировала лишенные жизни кадры, какие нередко получаются при съемках с высокой точки, когда в персонажах нам чудятся будущие жертвы и потенциальные покойники.
Следующий ряд экранов поражал строгостью изображения, на всех восьми мониторах светилась ярко-белая, гипнотизирующе монохромная на первый взгляд картинка, на которой при ближайшем рассмотрении угадывались линии углов и плинтусов и распознавались в одноцветных квадратах разноплановые виды пустых выставочных залов музея. Я неотрывно смотрел на белый, слегка искрящийся ряд и вдруг увидел Мари — одинокий силуэт, медленно движущийся передо мной по экрану. В черном пальто на белом фоне она плыла, словно в невесомости, с монитора на монитор, исчезнув с одного, выныривала на другом. Иногда она на секунду появлялась на двух экранах сразу, а в следующую секунду оказывалось, что ее нет ни на одном, она пропадала, и я немедленно ощущал что-то похожее на боль, я скучал по Мари, мне ее не хватало, хотелось увидеть ее снова. И тогда она возникала в кадре, останавливалась посреди зала. Я вошел в комнату, приблизился к экрану вплотную, уставившись на его электронное сияние с расстояния в несколько сантиметров, и увидел, как Мари повернулась в мою сторону, безразлично посмотрела на камеру наблюдения, взгляды наши на мгновение встретились, но она этого не знала, не заметила, и я словно бы визуально убедился, что между нами все кончено.