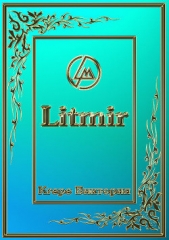Дни гнева

Дни гнева читать книгу онлайн
«Дни гнева» — это книга полная дурманящих запахов и зловещих тайн, на страницах которой царит безумие. Но, с другой стороны, это пронзительно-нежный роман о любви и смерти. Сильви Жермен умеет сплетать, казалось бы, несочетаемые сюжетные нити в совершенное полотно, гобелен, в эпическом пейзаже которого кипят низкие страсти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В то утро Элуа-Мари, обычно рассеянный, вдруг вслушался в слова кюре. Читалось Евангелие от Матфея, о хождении Христа по водам. Элуа-Мари был потрясен, восхищен. Значит, по воде можно ходить. Эта мысль наполнила его несказанной радостью. Может, и он мог бы не только играть на речном берегу и удить рыбу в озере, но и скользить по зыбкой поверхности? Ему уже ясно представилось, как он бежит босиком через Сеттонское озеро, приплясывая на ходу. Выйдя из церкви, он воскликнул: «Я тоже хочу ходить по водам!» Братья подняли его на смех: «Ты? Да куда тебе, такому трусу! Потонешь, как сырое полено, скорее святого Петра». Но Эдме приструнила их: «А ну замолчите и не смейтесь над такими вещами! Шествовать по водам могут только святые. Святые! Мы с вами им не чета. Для этого душа должна быть легче стрекозы». Что ж, Элуа больше не заговаривал о своей заветной мечте, но с тех пор она не покидала его. Вечно погруженный в грезы, он сделался еще рассеяннее, чем прежде. Когда же его спрашивали, о чем он все время думает, он отвечал: «Мне чудится, что я не здесь, а где-то далеко». Это «не здесь, далеко» и означало то волшебное место, ту блестящую водную гладь, отражающую деревья и облака, ту бесконечную равнину меж небом и землей, по которой можно ходить босиком, плясать, бегать и скользить. Так его и прозвали Элуа-Нездешний.
Прозвища двоих младших напрашивались сами собой и объяснялись их врожденными дефектами. Луи-Мари сначала звали просто Дурачком, потому что он и был слабоумным, позднее же он получил другое прозвище: Луизон-Перезвон. У него был тоненький, лепечущий голосок, безмятежный взгляд, он смешно размахивал ручками и мог по любому пустяку то закатиться пронзительным смехом, то залиться горькими слезами. Когда же он стал подростком, у него появилась странная, оставшаяся на всю жизнь мания. Он вообразил, что он девочка и никогда не станет мужчиной. Щуплое, хрупкое тельце, тонкий голосок, взбалмошный вид, беспричинный смех, слезы, гибкая, танцующая походка — все это делало его блажь вполне правдоподобной. Он же совершенно серьезно относил себя к женскому полу. И говорил о себе не иначе как в третьем лице женского рода — «она». Любил наряжаться в старые юбки и платки, отпустил длинные волосы и завязывал их узлом или заплетал в косу.
Он помогал матери по хозяйству, делая все понемножку и ничего толком. Впрочем, у него было три любимых занятия: мести — и если у него не отнять веник, он подметал бы все на свете, включая лес, реку и небеса, — прислуживать матери, на которую он всегда глядел с восхищением, и звонить в колокола на колокольне. Но поскольку он не мог ходить в деревню каждый день, то развесил большие и маленькие колокола на ветках вяза за домом и трижды в день отбивал свой благовест. Колокола звонили вразнобой, а он счастливо смеялся.
Самый же младший, Блез-Мари, родился с заячьей губой, за что его и прозвали Блез-Урод. Впрочем, из-за этого уродства он стал любимчиком бабушки Эдме. Родился он глубокой ночью, которой завершились растянувшиеся на девять лет сутки 15 августа. Эдме так и считала, что один и тот же Богородицын день чудесным образом повторился девять раз. И последнее дитя было отмечено печатью божества в час своего рождения. Перст Ангела Господня коснулся губ младенца, еще покоившегося в околоплодных водах, одновременно благословив его и повелев хранить молчание, не разглашая тайну той силы, что снедает сердце и плоть его матери, — тайну, в которую он был посвящен. Ангельские персты так неосязаемо легки, так безмерно нежны, что их прикосновение неотразимо, и те, кто удостоен этого божественного касания, всю жизнь сохранят на своем теле шрам, как след чудесной раны. Так, и не иначе, истолковывала Эдме непомерную тучность своей дочери: видя в ней зримый след прикосновения Архангела Гавриила, посланца от Престола Божия, того, что некогда возвестил Захарии, что престарелая жена его родит сына, а позднее сказал Марии: «Радуйся, Благодатная, Господь с тобою». Вот почему Эдме с благоговением взирала на гигантское тело дочери и обрадовалась, увидев раздвоенную губу младшего внука. Они оба были взысканы посещением Архангела, их больше, чем ее самое и чем всех остальных, возлюбила Мадонна, ибо послала к ним ангела Благой Вести. Их физические недостатки были в глазах Эдме видимым проявлением божественной красоты. Ибо красота благодати должна была, по ее разумению, выражаться не во внешнем совершенстве, а, напротив, в некоем повергающем в трепет уродстве.
Но восторг бабки не менял отношения окружающих: Блез был для всех страшилищем. Он знал это, но принимал спокойно. Обделенный физической красотой, он обладал иным достоинством — даром слова. Голос его был таким проникновенным, таким выразительным и мелодичным, что стоило ему заговорить, как любой невольно останавливался и зачарованно слушал. Никто в округе не умел говорить так, как он, ни у кого больше не было таких слов, образных, выпуклых, обладающих цветом и вкусом. Единственный среди своих земляков, он научился читать и отличался к тому же необыкновенной памятью.
Блез-Урод разводил пчел. Их называли медовыми мухами, а ульи — мушиными домишками. Устроены они были так: несколько соломенных колпаков, скрепленных ветками ежевики, с ореховыми жердочками внутри, на деревянной подставке, под общей крышкой, тоже плетенной из ржаной соломы. На Рождество в каждый улей клали по угольку от сожженного в святую ночь полена, на счастье пчелиного племени, а в Вербное Воскресенье приносили из церкви освященные самшитовые ветки и втыкали в соломенные крышки. Но Блез-Урод, следуя примеру бабки, вносившей свою лепту в унаследованные от предков поверья, пользовался каждым праздником в честь Господа, Пречистой Девы и святых, чтобы устроить торжественную церемонию для своих пчел.
Он расставил «мушиные домишки» за фермой, неподалеку от вяза с колоколами, в которые трижды в день звонил Луизон-Перезвон. Блезу нравился и звон колоколов, и взвизгивающий хохот брата, он говорил, что пчелам с их живым, радостным, порхающим, похожим на солнечные брызги пением как раз под стать эти бодрые переливы. Ведь сами пчелы — искры ангельского смеха. Он верил в незримое присутствие в нашем мире ангелов, столь преисполненных великой радости от лицезренья Господа, что охотно расточают ее всем тварям земным, огненно-золотыми роями разбрасывая по земле. Еще он говорил, что красноречием своих уст обязан пчелам. Они садятся ему на руки, на плечи, на лицо, садятся и на губы. И оставляют на них, уверял он, цветочную пыльцу, огненные частички света, которые хватают на лету, они наполняют мне рот ароматом и сладостью, всей благостью земной, которую вкусили. Но сладко только в первый миг, а дальше — во рту огонь и боль. Вот откуда мои слова: вылепленные из всех земных прелестей и ароматов, они льются с моих губ, как струя чистейшего меда, кружат во мне, точно стая опьяненных небом и солнцем жаворонков. Пчелы говорят моими устами, танцуют у меня на языке, поют в моем горле, пылают в моем сердце. Они моя отрада, мой свет, моя любовь. Так отвечал Блез-Урод, последний из девяти сыновей Эфраима и Толстухи Ренет, когда его спрашивали, откуда берутся его чудные речи. Этот ответ заставлял любопытных удивляться еще больше и отбивал охоту насмехаться. Немудрено, что, глядя на младших, вечерних чад, Эфраим испытывал не столько гордость, сколько смятение. Ему были непонятны их причуды: бродяжий дух, страсть к одиночеству, витанье в облаках. Помутненный разум одного и чрезмерно просветленный другого равно озадачивали его. Зато Ренет находила близ них облегчение своих голодных мук. Когда Леон-Нелюдим приносил вечером убитых птиц, бросал их на кухонный стол и молча приступал к священнодействию: не спеша ощипывал перья, — она чувствовала, как жестокий зверек — ее голод — на время умерял свою прожорливость и прятался глубже в ее истерзанную плоть. В отсутствующем взгляде Элуа-Нездешнего она видела мир, по которому он вечно тосковал, угадывала простор и покой неподвижной воды, где голод ее мог утонуть. Когда Луизон-Перезвон забавлялся со своими колоколами на вязе и заливался смехом, ей казалось, что в этом разноголосии колоколов и колокольчиков она слышит беспечный и веселый собственный смех, вырвавшийся на волю из телесного заточения. А слушая диковинные речи Блеза-Урода, пестрящие непонятными словами, она в изумлении застывала и на какое-то время забывала о ненасытном голоде. Потоки света, чудная легкость открывались ей в чистом и звучном голосе, в трепетных словах, струившихся из обезображенных уст младшего сына. Подхваченная этими струями, она взмывала в упоительную невесомость. Тяжесть ее громадного тела уменьшалась, она обретала ловкость и уверенность, каких прежде в ней никогда не было. Все создания, вышедшие из ее утробы, ее плоть и кровь, взрослели, мужали. В каждом крепла своя, свободная, сильная, живая душа, и мало-помалу вечный голод Ренет утолялся.