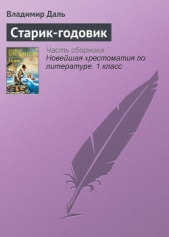Лазалки

Лазалки читать книгу онлайн
Новая книга талантливой писательницы Ульи Новы поможет вернуться в страну детства и вновь пережить ощущение необъятности мира, заключенного, быть может, в границы одного микрорайона или двора с детской площадкой и неизменно скрипучими ржавыми качелями… И тогда город тревог, овеянный бесцветными больничными ветрами, превращается в город лазалок, где можно коснуться ладошкой неба, где серебряный ветер пропеллеров насвистывает в губные гармошки входных дверей, где живут свобода и вдохновение, помогающие все преодолеть и все победить…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец Артем, отдышавшись, объявил: «Только т-с-с-с-с». Протянул сжатый кулак на уровень моих глаз. Резко театрально разжал пальцы. На середине его влажной от бега, дрожащей от гордости ладошки лежал посеребренный шарик, усыпанный сеткой черных-пречерных, проржавевших царапин. На фоне лазалки-паутинки и пятиэтажного дома, на балконах которого колыхалось белье. На фоне молоденьких берез и вишен, тянущихся к окнам пятых этажей, к квадратным голубиным выемкам чердака. На фоне вихрастых облаков над крышами. И далекой трубы котельной из кирпича цвета запекшейся крови. Шарик, тяжелый на вид, лежал на ладони. Артем махал другой рукой, в сторону магазина «Молоко» и пустынной баскетбольной площадки, которую зимой превращают в каток. Где-то там шарик лежал на вытоптанной жухлой траве возле самодельных, кое-как сваренных гаражей. Артем подобрал его только-только. Схватил с земли, даже не разглядев, сжал в кулак и понесся мимо школы, футбольного поля, наполовину сгоревшего деревянного магазина «Продукты», задыхаясь, не замечая мальчишек на велосипедах и старушек возле подъездов. Он бежал, сам не зная, куда и зачем, просто от того, что его переполняли: гордость, восторг, пробуждение. Он захлебывался от хороших предчувствий, отдающих жасмином и марципаном. Перед ним распахивались новые улицы. Он бежал, раскрываясь, на каждом шагу превращаясь в ожидание. И уверенность. Он возник и теперь с интересом прислушивался, оглядывал двор черными яркими глазами. Первой, кому он, еще не находя слов, похвастался находкой, была я.
Некоторые люди есть с самого начала. Например, Славка-шпана, бабушка, Лена с ветерком. Из-за этого они всегда сразу знают, как реагировать на свежую, только-только узнанную тайну, на телефонный звонок, окрик, грубую шутку и замечание. Они с лету угадывают единственное правильное решение, как поступать, что говорить. Высмеять шутку или отвернуться, вздернуть нос и обиженно уйти. А все остальные ищут себя постепенно. Шаг за шагом, наступая в лужи, продвигаясь наперерез через дворы, падая со сваленных ржавых труб, крича громче, чем надо. Все остальные, поступая наобум, постепенно ищут меньшее зло, обжигаясь, неумело нащупывают, что лучше было бы сказать, когда улыбнуться. И эти поиски даются с огромным трудом. А все потому, что некоторых людей как бы и нет с самого начала. Они собирают себя день ото дня. Артем протягивает шарик, задыхаясь от гордости и восторга, делится со мной находкой, но от этого земля под моими ногами начинает покачиваться. И я совершенно не знаю, что делать. Меня жалит изнутри невысокая, кудрявая крапива с маленькими стрекающими листочками и крошечными белыми цветами. Меня разрывает на части от боли, сожаления и горечи. Если бы мы не впустили незнакомый сквозняк в форточку, а отправились с бидонами за молоком, то наверняка этот шарик нашла бы я. Или дед выкатил его из травы палкой-клюшкой. Вместо этого наш день превратился в бескрайнюю лужу, колыхающую на своей свинцовой воде небо. А еще в мокрый плащ, грязные носки, раскисшие выходные туфли. И зеленый, бесполезный самолет, уже распоровший крылом кармашек моего плаща. А если бы мы пошли за молоком, прислушиваясь к песням бидонов, которые, пошатываясь, скрипят о черные ручки, шарик был бы моим. И сейчас я бы думала, как им распорядиться: всегда носить с собой, в кармане бриджей. Или спрятать в специальный тайник, в секретере, за первый ряд тусклых, пахнущих желтыми страницами книг. Или все же закопать во дворе, на вырост. Меня жалят горечь и отчаяние. Я не могу улыбнуться, потому что мои губы срастаются, а голос пропадает. Я обиженно отворачиваюсь. Молчу, уставившись на темно-зеленые «селедки» одуванчиков. Это приводит Артема в замешательство, недоумение, он обиженно бормочет: «Так ты! Ну и ладно!» Он сжимает шарик в кулаке, срывается и несется дальше, стараясь не растерять восторг, гордость, ожидание. И желание поделиться с кем-нибудь находкой, чтобы услышать в ответ правильные слова: «Ого!», «Зыко!» или «Ух-ты!».
У меня дрожат губы. По лицу пробегают судороги и гримасы, необходимые для того, чтобы сдержать в горле разрастающегося голубя и запихнуть наворачивающиеся слезы внутрь. Я догадываюсь, что снова ошиблась, не угадала единственно верное решение, как поступить, что сказать. Я снова все напутала, заблудилась и повела себя неправильно. К горечи примешивается позорное, унижающее ощущение ошибки.
Дед бросает ржавую железку, ловит мою руку, грозит вслед убегающему, склоняется, заглядывает в глаза. Начинает тихо, заботливо выяснять: «Нет, скажи, он тебя обидел? Что он тебе такое наговорил? Я его сейчас догоню, уши оборву. И бабке его нажалуюсь. Она ему всыплет по первое число».
Жалостливая и возмущенная суета деда совершенно не к месту. От этого голубь не проглатывается, а начинают быстрее разрастаться в горле, царапаясь коготками. И листья одуванчиков медленно расплываются. Я что-то мямлю, но дед ничего не слышит. Он готов броситься в бой, нагнать обидчика, хорошенько припугнуть его. Выплюнув тоненькую пластинку, в которую превратилась по дороге таблетка валидола, он бросается вдогонку, я плетусь следом, провожаемая пристальными взглядами двух тетушек, что возвращаются от мусорных баков с пустыми помойными ведрами. К счастью, Артема нигде не видно. Ни на пустыре возле гаражей, ни в засаде за кустами боярышника. Я тащу деда за рукав, тихонько всхлипывая, что у меня замерзли ноги. От этого он забывает: про обидчика, ржавую железку, валидол и даже про новенькие доски у кого-то на балконе.
Дома дед растирает мне ноги спиртом, приговаривая, что так всегда делали, когда переходили реки вброд. Так поступали кавалеристы и пехота. А еще врачи, пулеметчики и медсестры. А руки и лица растирали снегом, сильно-сильно, пока снег не превращался в огонь. «Горло ни у кого не болело. Насморк не начинался. Значит, и у тебя не начнется. И бабушка не расстроится. А лужа – это ничего. Это бывает. А обидчику достанется. Что он тебе сказал?» – «Ничего». И дед дает мне глотнуть из пузатой бутыли с толстым зеленым стеклом прозрачную жидкость, которая во рту превращается в огонь. И тут же обжигает изнутри щеки, язык, горло, а потом расплавляет что-то в голове. Сразу захлестывает волна тепла. И становятся понарошку: затихающие при виде нас тетушки во дворах, замирающие на балконах мужички в майках, мальчишки, хитро бормочущие друг другу, шарик на распахнутой, трясущейся от гордости ладони Артема. Шепот на крыльях дворового ветра. И даже бабушкины всхлипы в уголке со швейной машинкой. Все забывается и улетает в окраинные переулки, в сумрак чужих подъездов. И как всегда, по волшебству, мое настроение передается деду. Повеселев, он кладет самодельную гладильную доску на кухонный стол, плюет на палец, отдергивает пшикнувшую руку от раскаленного утюга и начинает бережно гладить коричневые брюки через серую мокрую марлю. Медленно и аккуратно, чтобы завтра рано утром отправиться на другой конец города, к киоску, где продают газеты, лотерейные билеты, брелки и открытки. Он уже давно собирался попытать счастье и купить три билетика спортлото. «Надо попробовать, как в него играют. Вдруг повезет выиграть стиральную машину. Или электрическую мясорубку». Притаившись на табуретке, я с завистью наблюдаю, как, раскаляясь и шикая паром, утюг важно движется по марле туда и обратно. Впереди острого носа разбегаются волны. Позади остается полоса безукоризненно ровной, разглаженной ткани. Тогда, потеряв терпение, я умоляю: «Совсем немножко, капельку, один раз». А потом уже требую: «Срочно, сейчас же». И наконец упросив, отвоевав утюг, глажу все, что попадается на глаза. Фартук, пропитанное маслом кухонное полотенце, пахнущую духами салфеточку из-под телефона, отдающую столетней пылью салфетку с телевизора «Рекорд», бархатную тряпку, краешек шторы, носовой платок, найденный под шкафом обрывок бинта. Радио, заглушая дедовы обреченные вздохи, выкрикивает нескончаемую пьесу. Про деревню, водителей комбайнов и грузовиков. Пластмассовая серая коробочка радио медленно и сурово рассказывает о том, как они мучаются, размышляя о жизни. У них тоже иногда побаливает сердце. Но та боль и тревога за будущее, что щемит и бродит внутри, – намного сильнее, поэтому они все время курят на крыльце, смотрят вдаль, на вспаханное поле. А у нас на кухне – праздник, мы отглаживаем наш день, лишаем его складочек и загибов. Утюг летает туда-сюда по доске, иногда чуть запинаясь о грубые ручные стежки самодельной обивки. Очнувшись, постукивая тапками, дед бежит к телефону. А я, поддавшись небывалому вдохновению, снимаю любимые синие гольфы, привезенные как-то мамой в подарок из Москвы, мою гордость, предмет зависти всех девчонок городка. Я решительно снимаю гольфы и устанавливаю на один из них утюг. Резинка гольфа на глазах мгновенно оплавляется как мороженое. Тяжеленный, раскаленный утюг с трудом отлепляется, растягивая в воздухе голубоватые липкие паутинки. Жалкий оплавленный гольф лежит на гладильной доске. Рана, охладившись, запекается жесткой коркой скрюченных нейлоновых волоком. Они похожи на грубый шрам, на рубец. И раненый гольф кричит от нестерпимой боли. Как кто-то во дворе, упав с велосипеда, коленкой об асфальт, до крови, перемешанной с пылью и песчинками, которые впиваются в рану, заволакиваемую пронзительно-розовой блестящей сукровицей. Только у гольфа кровь голубая. И его болячка – темно-синяя, она уже затвердела. Из-за нее гольф никогда не превратится обратно, в прежний. Отныне, напоминая о неудаче, увечный и бедный, он будет сползать на щиколотку, сбиваться в гармошку, станет лишним поводом для старух в кофтах птиц гнева, для тетушек во дворах и мужиков, курящих на балконах, покачать головами, жалеть бабушку, шептаться о том, как ей тяжело со мной и с дедом. Я судорожно верчу в руках синюю каемочку-болячку прожженного нейлона. Сто ранящих Какжетак, пущенных врединами из рогаток, до синяков обжигают меня изнутри. С выкриком «Деда!» я бегу требовать, чтобы он превратил гольф обратно, в прежний.