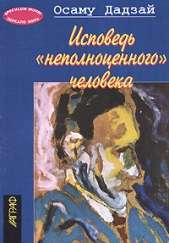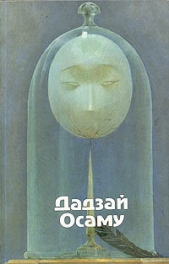Избранные произведения. Дадзай Осаму
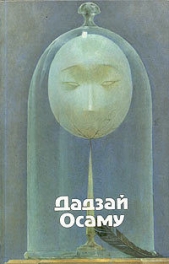
Избранные произведения. Дадзай Осаму читать книгу онлайн
Дадзай Осаму, пожалуй, одна из самых трагических фигур в японской литературе XX века. Его трудно отнести к определенному литературному направлению. Многие называют его классиком «романа о себе» («ватакуси-сесэцу»), другие говорят о близости к романтизму, но при том, что и то и другое, несомненно, присутствует в его творчестве, прозу Дадзая Осаму трудно вместить в узкие рамки одного жанра.
Большая часть произведений, вошедших в книгу, на русский язык ранее не переводилась.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Милостивый государь!
Обращаюсь к Вам с просьбой. Вы один можете меня спасти.
В этом году мне исполняется двадцать шесть. Родился я в городе Аомори, в Храмовом районе. Наверно, Вы не знаете, но там, возле храма Сэйкадзи, была в свое время маленькая цветочная лавка «Томоя». Я — меньшой сын того самого Томой. Окончив среднюю школу, нанялся на военный завод в Иокогаме, отработал три года, потом четыре года служил в армии. После капитуляции вернулся в родные места. Дом сгорел. Отец и старший брат с женой ютились в жалкой лачуге на пепелище. Мать моя умерла, еще когда я учился в школе.
Разумеется, мне не хотелось обременять отца и семью брата, втискиваясь в их и без того тесную лачугу, посовещавшись, было решено, что самое лучшее для меня устроиться на работу в почтовое отделение, расположенное в приморской деревушке в шести километрах от Аомори. Начальник отделения был старшим братом покойной матушки. С тех пор худо-бедно прошло уже больше года, и с каждым днем у меня все сильнее чувство, что я веду совершенно бессмысленное существование. Вот это меня и угнетает.
Впервые я познакомился с Вашим творчеством, когда работал на военном заводе в Иокогаме. Это был рассказ, опубликованный в журнале «Стиль». С тех пор у меня сделалось привычкой выискивать и читать все, что вышло из-под Вашего пера, и я был просто потрясен, когда в одном из Ваших рассказов прочитал, что Вы учились в старших классах той самой школы, в которой учился я, и что в то время Вы жили в доме господина Тоёда в Храмовом районе Аомори. Я хорошо знал господина Тоёду, торговца мануфактурой, мы ведь, считай, соседи. Отец Тадзаэмон был тучным, поэтому имя Тадзаэмон — «Толстяк» — ему очень подходило, а сын — тощий и подвижный, его впору было называть Хадзаэмоном — «шустрым». Но и тот и другой были прекрасными людьми. Во время налетов американской авиации Тоёда, так же как и мы, пострадал от пожара, у него сгорело все, включая склад. Бедняга!.. Узнав, что Вы жили в доме этого самого Тоёды, я порывался обратиться к его сыну с просьбой написать рекомендательное письмо с тем, чтоб нанести Вам визит, но по обычному своему малодушию я удовольствовался мечтами, не найдя в себе силы воли их осуществить.
Между тем меня призвали в армию, направив на строительство береговых укреплений в Тибу, где до самого конца войны я изо дня в день усердно рыл траншеи, но и в то время изредка выпадали полдня отдыха, тогда я шел в город, выискивал и читал Ваши произведения. Не знаю, сколько раз я брался за перо, чтобы написать Вам письмо. Однако, написав «Милостивый государь!», не знал, как продолжать — никакого особого дела к Вам у меня не было, да к тому же я для Вас совершенно посторонний человек… Так я и сидел в замешательстве над пустым листом бумаги. Вскоре произошла безоговорочная капитуляция Японии, я, как и многие, вернулся в родные края, поступил на работу в почтовое отделение, но каждый раз, бывая в Аомори, непременно заглядывал в книжную лавку, спрашивал Ваши книги и вновь пережил потрясение, прочитав, что Вы тоже пострадали от военных бедствий и тоже переехали в свои родные края — в Канаги. Но я так и не нашел в себе мужества явиться к Вам без приглашения и после долгих колебаний, в конце концов, решил обратиться с письмом. На этот раз я не сдамся, написав: «Милостивый государь!» Ведь это — деловое письмо. Более того, дело — не терпит отлагательства.
Поверьте, мне необходим Ваш совет. Я в крайнем затруднении. К тому же, я уверен, не меня одного, многих людей изводят подобные мысли, поэтому Ваш совет был бы полезен всем нам. Работая на заводе в Иокогаме, служа в армии, я постоянно порывался послать Вам письмо, и жаль, что теперь, когда я, наконец, собрался, мне предстоит поведать Вам о вещах не слишком веселых.
Пятнадцатого августа сорок пятого года, ровно в полдень, нас построили на плацу перед казармой. По репродуктору передавали речь Его Величества, но треск и шум заглушали слова, разобрать что-либо толком не было никакой возможности. Затем на трибуну энергично взбежал молодой лейтенант.
«Слышали? Все понятно? Япония приняла условия Потсдамской декларации и капитулировала. Но это — политика. Мы — военные, и мы будем оказывать сопротивление до конца, а если потребуется, собственными руками лишим себя жизни, отдав последний долг нашему государю. Лично я с самого начала был к этому готов, надеюсь, что и у вас хватит мужества! Все понятно? Ну ладно, разойдись!»
Закончив свою речь, молодой лейтенант сбежал с трибуны, на ходу снимая очки, и когда он проходил мимо, было видно, что из глаз у него текут слезы. Душевный подъем — так, кажется, называют это чувство. Я стоял как вкопанный, вокруг меня все потемнело, откуда-то вдруг подул ледяной ветер, и мне почудилось, что мое тело проваливается под землю.
Мне хотелось умереть. Умереть — это подлинное, думал я. Роща перед плацем была гнетуще тихой, черная, как смоль. Из-за деревьев метнулась стайка мелких птиц, точно бросили горсть зерен, и беззвучно улетела.
Вот тогда это и произошло. За моей спиной, со стороны казармы раздался слабый звук: «тук-тук-тук». Кто-то забивал молотком гвозди. Едва я услышал стук — наверно, про такое говорят «с глаз нала пелена»? — все, что давеча меня воодушевляло, вмиг исчезло, и, точно освободившись от дьявольского наваждения, я стал совершенно спокоен, ум прояснился, равнодушно озирал я простиравшуюся передо мной песчаную равнину под палящим полуденным солнцем и ничего, ничего не чувствовал.
Побросал в рюкзак свои манатки и безучастно вернулся в родные края.
Слабый стук молотка, донесшийся издалека, напрочь лишил меня милитаристских иллюзий, и во второй раз меня бы уже ни за что не одурманил этот выспренний кошмар, но видать, тихий стук потряс меня до глубины души, а только с тех пор во мне завелась странность, как будто я заболел какой-нибудь гадкой эпилепсией.
Разумеется, это не значит, что со мной случаются дикие припадки. Наоборот. Стоит мне испытать сильное впечатление и воспрянуть духом, как в тот же миг невесть откуда доносится тихий стук молотка — «тук-тук-тук», и меня тотчас охватывает покой, все перед глазами меняется, как будто разорвалась кинопленка, и я сижу, уставившись на белый экран, такое вот тщетное, глупое чувство.
Устроившись на работу в почтовое отделение, я подумал — ну вот, наконец-то, теперь я могу свободно предаться своим любимым занятиям, прежде всего, напишу роман и пошлю его Вам на прочтение, и я начал на досуге записывать воспоминания из армейской жизни, вымучил страниц сто, и уже замаячил не сегодня-завтра конец, когда как-то на исходе осени, по окончании работы, я пошел в общественную баню и, парясь в горячей воде, раздумывал о том, что этой ночью мне предстоит написать последнюю фразу, и какой она будет — исполнена светлой печали, как последняя строфа «Онегина», или же, как у Гоголя в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», завершить нотой безнадежности, я весь кипел от воодушевления, глядя на лампочку, спускающуюся с высокого потолка бани, и вдруг— «тук-тук-тук», откуда-то издалека послышался стук молотка, и в тот же миг волна схлынула, и я был всего лишь голый человек, бултыхающийся в горячей воде в углу темного бассейна.
В таком поистине жалком умонастроении я вылез из воды, ополоснулся, прислушиваясь к болтовне посетителей, обсуждавших продовольственные карточки. Имена Пушкина и Гоголя отдавали скукой, как названия импортных зубных щеток. Я вышел из бани, перешел через мост, вернулся домой, молча поужинал, потом поднялся в свою комнату, безучастно пролистал стостраничную рукопись, изумился ее бездарности, впал в уныние, у меня даже не нашлось сил ее разорвать, и в последующие дни я использовал бумагу вместо носовых платков. С тех пор и до сего дня я не написал ни строчки, годящейся в роман. В доме дяди была небольшая библиотека, и время от времени я брал у него почитать антологии выдающихся произведений современных писателей, что-то мне нравилось, что-то оставляло равнодушным, теперь я жил без всяких претензий, рано ложился спать под завывание вьюги, вел жизнь поистине «бездуховную», разглядывал художественные альбомы, вроде «Собрания шедевров мировой живописи», пролистывал, скучая, когда-то столь любимых мной французских импрессионистов, гораздо больше теперь меня привлекали работы двух японских художников конца семнадцатого века — Огата Корин и Огата Кэндзан. Ныне я был убежден, что «Азалия» Корина намного превосходит картины и Сезанна, и Моне, и Гогена. Постепенно моя так называемая «духовная жизнь» обрела второе дыхание, но, разумеется, я не питал честолюбивой мечты стать таким же знаменитым художником, как Корин или Кэндзан, довольно если я буду эдакий местечковый дилетант, моя участь— с утра до вечера, сидя у почтового окошка, пересчитывать чужие деньги, только и всего, но для такого, как я, бесталанного, невежественного человека вряд ли подобное существование можно счесть падением. Ведь есть же такая вещь — венец скромности. Изо дня в день тянуть лямку, выполняя свои служебные обязанности, может быть, это и есть самая возвышенная духовная жизнь. Понемногу я научился гордиться своим заурядным существованием, как раз в это время начался обмен денег, и даже в нашем захолустном почтовом отделении, таком крохотном, не хватало рабочих рук, мы были так загружены, что буквально разрывались на части, с раннего утра принимали декларации о денежных вкладах, клеили гербовые марки на старые деньги, и несмотря на смертельную усталость, не могли себе позволить ни минуты отдыха, а я-то и подавно, будучи на иждивении своею дяди, выбивался из сил, стараясь единственным возможным для меня способом отплатить за его благодеяния, работал так, что уже не чувствовал своих рук, тяжелых, точно на них надели железные перчатки.