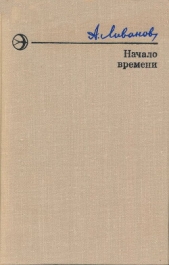Повести и рассказы

Повести и рассказы читать книгу онлайн
Книгу известного белорусского писателя Алексея Кулаковского (1913-1986) составили его лучшие произведения, посвященные героической и трагической сущности войны (повести «К восходу солнца», «Белый Сокол», «Хлеборез»), тяжелой жизни послевоенной деревни (повести «Невестка», «Добросельцы») и дню сегодняшнему.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Не могла, потому что не было соломы!
- Так, соломы. - Инструктор иронически усмехнулся, глянул на бригадира, а потом обвел глазами присутствующих. Никто не ответил на его усмешку, но это не остановило оратора. - Соломы, значит, у вас нет. А знаете, дорогая моя, что если так работать, как вы работаете, так не только соломы, но и хлеба не будет. Кто не работает, тот не ест. Слышали об этом?
- А откуда вы, дорогой мой, - женщина шагнула еще ближе к столу, откуда вы знаете, как я работаю? А?
- А я уже все вижу, - уверенно заявил инструктор. - Тут долго не надо смотреть, все ясно и так, как на ладони. Лентяйка вы неимоверная, вот в чем корень! И ясно мне, что не одна вы тут такая! - Дробняк опять бросил взгляд на шахматистов. - Ну вот спросим, например, - продолжал он, - сколько у вас теперь трудодней?
- А что мне трудодни! - с возмущением проговорила женщина. - Спросите о них в нашем правлении!
- Ну, ясно! И сказать стыдно! Так я вам заявляю здесь совсем конкретно и авторитетно, что если вы и впредь именно так будете работать, то не только не получите хлеба, ну, и, скажем, какой-нибудь соломы и другого, но и усадьбу вашу обрежут! Обрежут по самую...
- Там видно будет! - громко сказала Марья. - А пока что вижу, что нам с вами не о чем говорить и напрасно мы пришли на собрание! Идем, женщины! Пусть товарищ оближет молоко на губах да немного присмотрится к людям, тогда и приезжает к нам. Пошли!
Она резко повернулась и зашагала к дверям. Несколько женщин вышло за нею в ту же минуту, а остальные удивленно зашевелились, заговорили и тоже постепенно начали расходиться. Дробняк возвышался над столом с растерянным, вытянутым лицом и не знал, что делать, о чем дальше говорить. Пока он опомнился, в конторе остались только бригадир, несколько мужчин и хлопцы-шахматисты. Последние даже приостановили игру.
Наконец, с возмущением и злостью, инструктор набросился на бригадира:
- Что это такое, что за саботаж?!
- Тут, короче говоря, немножко не с той стороны вышло, - хмуро и, видимо, с болью в душе ответил бригадир.
- Как это не с той? Что? Не понимаю!
- А тут и понимать нечего. Марья Гич самая лучшая у нас колхозница. Вдова, четверо детей, муж погиб на фронте. Она ежедневно ходит на работу и даже детей посылает.
Инструктор побледнел, потом густо покраснел. Он начинал уже понимать всю глубину своей ошибки, но обостренное самолюбие не позволяло сразу сдаться. Выйдя из-за стола, он спросил:
- Ну, а как же это?.. Вот даже соломы и то у нее нет. Там еще чего... И работает и нет? Совсем нет?
- Да, - подтвердил бригадир. - И работает и нет! У нас, короче говоря, пока что немало таких. Теперь, правда, немного лучше жить стали... Ведь у нас восемь председателей сменилось за последние два-три года. Привезут, как кота в мешке, расхвалят, изберем. Рассмотрим потом - пьяница, болтун. Снимем. Тогда опять привезут... Порядка никакого не было...
Вот и вини тут Марью...
* * *
Ночевать Якуб Дробняк остался у бригадира. Много они говорили. Но еще больше инструктор думал и переживал в одиночестве, окутанный теплым домашним уютом. Он лежал у окна, на приготовленной хозяйкою постели. Под боком был добротный тюфяк, под головой - подушка. А Дробняку казалось, что лежать ему твердо и неудобно, что хозяйка плохо стлала ему постель, потому что она тоже была на собрании и видела, как он оскандалился. Вспоминались все собрания, какие только приходилось ему проводить. И казалось, что еще никогда не было такого случая, как сегодня. Собиралась обычно молодежь, говорили о художественной самодеятельности, о торфоперегнойных горшочках, и всегда все шло гладко: пели песни после собрания или танцевали под баян. А тут совсем, совсем не то...
Трудно было представить, как пройдет эта ночь. Если бы вдруг наступило утро, Дробняку было бы легче на душе. Он встал бы и пошел осматривать бригаду. Сделал бы, чего не сделал вчера. Пошел бы по домам колхозников. Ничего, что посреди улицы лужа! Все-таки улица в Грибковской бригаде довольно красивая. Зашел бы в дом к Марье, посмотрел бы, как живет, познакомился бы с ее детьми. И если бы позволила, отложил бы все дела и охотно полез бы на крышу ее сарая. Пусть бы только подавала солому...
А потом в правление, затем в МТС, в райком партии! Нет, не лентяи, не лежебоки в Грибковской бригаде! Даже шахматисты и те, наверное, не лентяи. Главное, выходит, не в этом. Надо скорее думать, скорее решать, как поставить бригаду на ноги, как и чем ей помочь.
А Марья? Большое спасибо Марье!
И до самого рассвета Якуб Дробняк не уснул.
1955
Кружечка малины
Рассказ
Перевод с белорусского Эрнеста Ялугина.
Тихо отворяется дверь на веранду... Когда-то надумал я пристроить ее к отцовской хате: небольшенькую, с некрашеным дощатым полом.
...Мне слышится слабое шарканье по полу. Но ненадолго. За невысоким порожком - сенцы и там глиняный дол. Шаги глохнут в глине.
Я знаю, это идет ко мне мать.
- Принесла тебе малинок, - будто оправдываясь, говорит она. - Мытые.
В одной руке ее - голубая кружечка, доверху наполненная свежей малиной. Издалека это можно принять за букет. В другой - можжевеловая кочережка, кривая и сучковатая, однако, верно, весьма сподручная для матери, ибо никакой иной она не пользуется.
Рука с кружечкой дрожит. Я встаю навстречу, чтобы принять этот духовитый дар и поставить на стол, однако мать говорит:
- Ты пиши, пиши... Я сама поставлю.
Потом она садится, цепляет кочережку за подоконник.
- Ты пиши, пиши, - повторяет она. - Я не стану мешать. Посижу немного и пойду себе в ту хату.
"Та хата" - братнина. Она с большой печью в передней половине. Там мать ночует, но иногда лежит и днем. А у меня печки нет, только грубка, всегда холодная и сыроватая. Но мне здесь работается - здесь уютно, одиноко, и окна выходят на выгон, за которым белеют свежие этажи нового города.
- Ешь малинку, - приглашает мать. - Ешь и пиши себе. Может, тебе ясик принести?
Я гляжу на матулю немного растерянно - призабыл за многие годы городской жизни, что такое "ясик", не могу догадаться, для чего он мне.
- Подкладешь под спину, - продолжает мать. - Мягче тебе будет писать...
Вспомнил: так называют наши деревенские маленькую подушечку. Нет, обойдусь. И без нее удобно - стул обит штапелем. Благодарю мать за малину. Сначала смотрю на ягоды, любуюсь, а потом беру одну, аж темную от спелости, смакую.
- Это над сажалкою у нас, - говорит мать, - самые крупные и сочные.
И верно - сочные, тают во рту.
- Ты пиши, - повторяет мать. - Даже и внимания не обращай, что я тут, при тебе.
И не знает матуля: потому и пишу, что она всегда тут, со мной.
1976
Грудники
Рассказ
Перевод с белорусского Эрнеста Ялугина.
В Краснодар я собирался давно.
- Мне бы палату грудников... Знаете? - сказал я, пытаясь узнать санитарку. Это была уже довольно пожилая женщина с увядшим морщинистым лицом, а с тех пор, как я ее мог видеть, минуло тридцать с лишним лет.
- А, вот тут, на втором этаже, - охотно ответила санитарка.
Тогда главврач скрипнул начищенными сапогами, уточнил:
- Товарища интересует не новая палата, а военной поры, офицерская. Вы должны помнить.
Санитарка с какой-то печалью прищурила глаза, внимательно всмотрелась в меня, потом спросила тихо:
- И вы были там?
- Был.
- Я тогда в другой палате работала. Но, кажется, припоминаю вас... А медсестра у вас Маша была, черненькая такая...
- Вот, вот, - обрадованно, словно сейчас увижу ее, подтвердил я. - А теперь она...