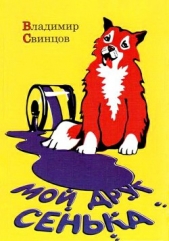Вчера

Вчера читать книгу онлайн
Русская проза практически ещё не освоила переломный исторический период в жизни СССР — десятилетнее правление Никиты Хрущёва (1954–1964 г. г.). Герой романа изобретательно пытается найти и находит своё место во враждебном ему мире, открыто исповедуя активное неприятие коммунистических догматов. При этом он не диссидент, но простой, наивный, бестолковый, «стихийный» шестидесятник, сознательно нарушающий бесчеловечные тоталитарные законы и, что удивительно, одолевающий таки всесильную Систему в нелёгкой личной жизни. Немало страниц, однако, посвящено и 30–40?м годам 20?го века — годам расцвета сталинизма, то есть предыстории хрущёвской «оттепели»…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но я ведь не против дисциплины, я против безобразий, которые, считаю, надо искоренять любыми способами. И то, что на мне свет клином сошёлся для вас, так только потому, что языкастый, беспокою ваши светлости, от лени и чада управленческого пробуждать пытаюсь…
— Нет, Серба, нет и нет! Что ты умный парень, я сразу приметил, но не туда глядишь. Во–первых, не надо на старших накидываться. Они этого не любят. Во–вторых, не всё сразу. И вентиляторы поставим, и душ на шестом этаже отремонтируем…
— Да не в душе дело, Евсеевич, дело — в душе!.. Я уже месяц бегаю и согласен ещё три голым мимо петлюковского кабинета с шестого на третий этаж скакать, но нельзя жить вполправды. Можно здорово поскользнуться. Вот вы скажите честно, как по теории должен говорить коммунист, что вы лично имеете от махинаций с фондом зарплаты?
— Не оскорбляй!
— И не подумаю! Хочу знать правду, до последнего слова. Вы на этом тоже подживаетесь или не разобрались, что и как?..
— Ну вот что, парень, я верю Петру Прохоровичу и буду поддерживать его, пока веру мою не опровергнут факты. Но думаю, что этому не бывать!..
— Вы участвовали в комиссии, которая пришила мне клевету, меня не вызвали даже, пусть, но сами–то вы за документы хоть брались или нет?
— Нет, зачем это? Что нет, то нет. Я в бумажках ихних не кумэкаю. Бухгалтерше поверили, что в ведомостях ажур.
— И напрасно, Евсеевич. Факты обычно прячутся в документах. Вы ж год назад ещё в слесарке за верстаком стояли, а теперь своему брату, рабочему, не верите…
Краминов молчал, с трудом толкая упрямый мотоцикл. Потом спросил, досадливо сплёвывая и тяжело налегая на «ИЖ» а, готовый от усталости бросить технику посреди улицы:
— Теперь ты мне скажи, Серба, но только тоже не бреши…
— Ну?!
— Письмо писали в «Правду»?
— А кто это спрашивает, вы или Петлюк?
— Ну и хитёр! И в привычках нет моих, запомни, такого, о чём ты подумал. Я партии служу, а не Петлюку. И если бы я знал, что ты прав, я, не колеблясь, поддержал бы твоё выступление. А так ты просто нарушаешь трудовую дисциплину.
— Дисциплину я принимаю осознанную. Мы же, рабочие, хозяева и завода, и этой самой дисциплины. Кстати, с каких пор критика относится к нарушениям трудовой дисциплины? Мудрите вы много, старики. Сами толкуете «вплоть до ЦэКа», а на деле…
— Не злословь! Вот я тоже в молодости такой скороспелый был, а потом переиначился, понасмотрелся, как надо, и, как говорится, не последний человек в цехе… Выдвинули меня из слесарей на руководящую работу, вот! А то, что недостатки есть, так их, Серба, когда не было? И языком их не выкорчуешь. Гайку другой раз затягиваешь, стараешься, а она возьми и перекосись, а кто виноват? Слесарь! И ещё вспомни, — раньше, при царе, рабочий был никто, орудие производства, не более, инвентарь, так сказать. А теперь? Кстати, раньше не то что вентиляторов, — спецовок не заведено было выдавать, в своём барахлишке–пальтишке и токарили наши отцы–деды… Что ты на это скажешь?
— Раньше, Евсеич, в лаптях ходили, а теперь вы вон туфли чешские обули… Но то, что личного касается, вперёд шагает и вприпрыжку, а обществу воздать — клещами вытягивай!..
— Это что ж, ты в меня прицелился? — Вздохнул Краминов и ещё тяжелее припал к рулю. Серба пожалел его:
— Давайте я, не надрывайтесь! — Семён подменил парторга и споро покатил мотоцикл по асфальту. Пройдя ещё немного, они увидели жёлтое приземистое здание областной типографии.
Когда Краминов и Серба докатили злосчастный мотоцикл до типографии, причесали вихры и добрались до красного уголка, обнаружилось, что заседание товарищеского суда ещё не закончилось, хотя и нацокало уже почти семь вечера. Из двери как раз вывалилась толпа возмущённых женщин и вспотевших мужчин.
— Оцэ жэрэбчик, николы ще такого нэ чула!..
— Ничего, дали ему прокашляться, запомнит!..
— А я не верю в исправление вот таких… похотливых тварей, — тихонько, с оглядкой, сказала подруге рыженькая девчонка. Двое мужчин со смаком обсуждали пикантные подробности.
— Ну и выступил наш Эдик, — с оттенком зависти пробормотал один из них. Другой сладко хихикнул.
— А, товарищ Краминов! — Подкатился к парторгу добродушный розовощёкий толстячок, директор типографии. — А я уже волновался. Позвонил, понимаете, к вам, и мне сказали, что ещё пяти не было, как выехали. Ума не мог приложить, что вас задержало…
— Дурацкий случай, мотоцикл забарахлил, ну не бросишь ведь посреди улицы. Так мы вдвоём, — Краминов кивнул на Сербу, — и катили его напеременку, будь он проклят!
— Ну ничего, ничего! — Успокаивал их директор типографии. — У нас всё прошло прекрасно, сверх ожидания! До двадцати человек записалось выступить, сроду такого не помню. Едва не побили Эдуарда нашего. Особенно женщины неистовствовали. Да вот и он, Эдик. Не скажу, что ему легко сейчас…
Мимо них медленно прошёл высоченный, смахивающий на латыша, парень в тёмном, сильно поношенном костюме.
«Белобрысый гигант…» — вспомнил Серба. Удивительно метко подметил тогда Перцов!
— Ну, я пойду, — поспешно простился Семён, чувствуя всю фальшь их с Краминовым запоздалого прихода, и бросился вслед гиганту, обуреваемый желанием поближе рассмотреть это чудо селекции.
Но так и не догнав того на улице, медленно пошёл к трамвайной остановке.
В последние дни Пётр Прохорович плохо спал, несколько раз в ночь вставал, закуривал, включал приёмник и, настроившись на волну «Радио Монте — Карло», слушал бесконечные джазовые вариации. Лицо его, осенённое зеленоватым светом шкалы приёмника, отражаясь в прикроватном трюмо, пугало его своим потусторонним холодом.
Он тихо, как рыба, плавал по комнатам своей четырёхкомнатной квартиры, наполненным пульсирующими отблесками уличных фонарей и потому похожим на аквариумы, и ловил себя на том, что страшится прыгающих по стенам узоров от ветвей акации, дрожащих неустойчивых сплетений линий, безмолвных, ненастоящих, зыбких, как водоросли.
Время от времени ему попадался на глаза стол в гостиной, за которым он потчевал в пятницу изменника Лупиноса. Разорённый, с хаотично расставленной смердящей грязной посудой, с окурками, брошенными, где попадя… Стол так и стоял неубранным с той минуты, как Нора умотала с председателем цехкома. Там же, утопая одним углом в салатнице, валялась телеграмма: «Я ушла с Михаилом зпт не могу больше зпт не делай глупостей тчк Нора тчк»
— Сволочи вы все! — Вслух подумал Петлюк. — Каждый за себя старается!
Он взглянул на сервант, где в темноте среди поблёскивающего хрусталя, виднелась карточка десятилетней Иринки. Чувство неопределённой боли и сожаления касалось иногда Петлюка. Но как человек решительный, враг сантиментов, он упрямо отгонял тоску по дочери и, если мысль о девочке опять возвращалась, науськивал на тоску яростную ненависть к первой жене Надежде и предательнице Норе.
Иногда в такие аквариумные ночи он ослабевал в борьбе с самим собой и тогда им овладевали воспоминания, подкрадывавшиеся тихонечко, как тени, из закоулков памяти, и ему становилось не то чтобы страшно, слова этого и заключённого в нём понятия он не понимал, а как–то не по себе. Так, однажды перед ним кандальным строем прошли годы, когда он, молодой перспективный следователь, всегда державший хвост по ветру, пошёл в гору — тридцать седьмой, тридцать восьмой, тридцать девятый… Особенно часто приходило на ум первое успешно раскрытое дело, после которого с ним стали считаться. Оно зримо, словно завершилось вчера, всплывало в памяти.
В то пасмурное сентябрьское утро далёкого тридцать седьмого года Петлюка вызвал начальник третьего отдела.
— Вот вам работка срочная, товарищ следователь. Постарайтесь быстро закруглиться и сразу доложите об исполнении!
Начальник отдела вручил Петлюку мешочного цвета скоросшиватель, где была подшиты три сиротливые бумажки — анонимное письмо на паровозного машиниста Харченко, махрового диверсанта и врага народа. Это он, Харченко, вывел из строя две недели тому назад паровоз «ЩТ» — 0369. В верхнем левом углу анонимки красовался фиолетовый регистрационный штамп и резолюция начальника отдела красными чернилами: «В расследование.» Дата и подпись. Затем ордер на арест гражданина Харченко Н. А. и протокол ареста именно этого нехорошего советского гражданина.