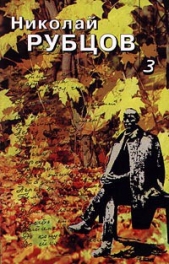Проза и эссе (основное собрание)

Проза и эссе (основное собрание) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Говорю это сразу, чтобы избавить читателя от разочарований. Я не праведник (хотя стараюсь не выводить совесть из равновесия) и не мудрец; не эстет и не философ. Я просто нервный, в силу обстоятельств и собственных поступков, но наблюдательный человек. Как сказал однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Поэтому нижеследующее связано скорее с глазом, чем с убеждениями, включая и те, которые касаются композиции рассказа. Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого. Не испугавшись обвинений в безнравственности, я легко снесу упреки в поверхностности. Поверхность -- то есть первое, что замечает глаз,-- часто красноречивее своего содержимого, которое временно по определению, не считая, разумеется, загробной жизни. Изучая лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, сумею сделать правдоподобную пуссеновскую вещь: нарисовать портрет этого места если и не в четыре времени года, то в четыре времени зимнего дня.
Такова моя цель. Если я отклонюсь, то здесь это прием, буквально заезженный гондолами и вторящий воде. Иными словами, предстоящее может оказаться не рассказом, а разливом мутной воды "не в то время года". Иногда она синяя, иногда серая или коричневая; неизменно холодная и непитьевая. Я взялся ее процеживать потому, что она содержит отражения, в том числе и мое.
11.
Безжизненные по природе, гостиничные зеркала потускнели еще сильнее, повидав столь многих. Они возвращают тебе не тебя самого, а твою анонимность, особенно в этом городе. Ибо здесь ты сам -- последнее, что хочется видеть. В первые приезды сюда я часто удивлялся, застав мою собственную фигуру, одетую или голую, в двери открытого гардероба; немного спустя я задумался над райским или загробным воздействием этого места на самосознание человека. Одно время я даже развивал теорию чрезмерной избыточности: теорию зеркала, поглощающего тело, поглощающего город. В результате, естественно, получаем взаимное отрицание. Отражению нет никакого дела до отражения. Город достаточно нарциссичен, чтобы превратить твой рассудок в амальгаму и облегчить его, избавив от значений. Сходно влияя на кошелек, отели и пансионы здесь выглядят очень уместно. После двухнедельного пребывания -- даже по ценам несезона -- ты, как буддийский монах или христианский святой, избавлен и от денег и от себя. В определенном возрасте и при определенных занятиях последнее всегда кстати, если не сказать обязательно.
Теперь обо всем этом, конечно, и речи нет, поскольку здешние умники закрывают на зиму две трети таких местечек; а оставшаяся треть круглый год поддерживает летние цены, от которых бросает в дрожь. Если повезет, можно отыскать квартиру, которая, естественно, сдается вместе с личными вкусами хозяина по части картин, стульев, занавесок и с легким оттенком нелегальности на лице, которое видишь в зеркале над умывальником. Иначе говоря, именно с тем, от чего ты хотел избавиться: с самим тобой. Все же зима абстрактное время года: бедное красками, даже в Италии, и щедрое на императивы холода и короткого светового дня. Эти вещи настраивают глаз на внешний мир с энергией большей, чем у электрической лампочки, которая снабжает тебя по вечерам чертами лица. Если это время года и не всегда усмиряет нервы, оно все-таки подчиняет их инстинктам: красота при низких температурах -- настоящая красота.
12.
В любом случае, летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета. Я плохо переношу жару; выбросы моторов и подмышек -- еще хуже. Стада в шортах, особенно ржущие по-немецки, тоже действуют на нервы из-за неполноценности их анатомии по сравнению с колоннами, пилястрами и статуями, из-за того, что их подвижность и все, в чем она выражается, противопоставляют мраморной статике. Я, похоже, из тех, кто предпочитает текучести выбор, а камень -всегда выбор. Независимо от достоинств телосложения, в этом городе, на мой взгляд, тело стоит прикрывать одеждой -- хотя бы потому, что оно движется. Возможно, одежда есть единственное доступное нам приближение к выбору, сделанному мрамором.
Взгляд, видимо, крайний, но я северянин. В абстрактное время года жизнь даже на Адриатике кажется реальнее, чем в любое другое, так как зимой все тверже, жестче. Если угодно, считайте это пропагандой в пользу венецианских лавок, чьи дела идут оживленнее при низких температурах. Отчасти потому, что зимою нужно больше одежды, чтобы согреться, не говоря уже об атавистической тяге к смене меха. Правда, ни один турист не явится сюда без лишнего свитера, жилета, рубашки, штанов, блузки, поскольку Венеция из тех городов, где и чужак и местный заранее знают, что они экспонаты.
Из чего вытекает, что в Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя наряды по причинам не вполне практическим; их подначивает сам город. Все мы таим всевозможные тревоги относительно изъянов нашей внешности и несовершенства наших черт. Все, что в этом городе видишь на каждом шагу, повороте, в перспективе и тупике, усугубляет твою озабоченность и комплексы. Вот почему люди, только попав сюда -- в первую очередь женщины, но мужчины тоже,-- оголтело атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному смутное желание не отставать, держаться на уровне. Это не имеет ничего общего с тщеславием или с естественным здесь избытком зеркал, из которых главное -- сама вода. Дело просто в том, что город дает двуногим представление о внешнем превосходстве, которого нет в их природных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь нарасхват меха, наравне с замшей, шелком, льном, хлопком, любой тканью. Дома человек растерянно глядит на покупки, прекрасно понимая, что в родных местах щеголять ими негде, не рискуя шокировать сограждан. Приходится им увядать в гардеробе или переходить к родным помоложе. Я, скажем, помню, как купил здесь несколько вещей -- само собой, в кредит,-- которые потом надеть не было ни духа, ни охоты. В том числе два плаща, один горчичный, другой светлого хаки. Теперь они украшают плечи лучшего танцовщика мира и лучшего поэта английского языка, хоть и ростом и возрастом оба от меня отличаются. Это все -- действие здешних видов и перспектив, ибо в этом городе человек -скорее силуэт, чем набор неповторимых черт, а силуэт поддается исправлению. Толкают к щегольству и мраморные кружева, мозаики, капители, карнизы, рельефы, лепнина, обитаемые и необитаемые ниши, статуи святые и снятые, девы, ангелы, херувимы, кариатиды, фронтоны, балконы, оголенные икры балконных балясин, сами окна, готические и мавританские. Ибо это город для глаз; остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку. Одного того, как оттенки и ритм местных фасадов заискивают перед изменчивой мастью и узором волн, хватит, чтобы ринуться за модным шарфом, галстуком и чем угодно; чтобы даже холостяка-ветерана приклеить к витрине с броскими нарядами, не говоря уже о лакированных и замшевых туфлях, раскиданных, точно лодки всех видов по Лагуне. Ваш глаз как-то догадывается, что все эти вещи выкроены из той же ткани, что и виды снаружи, и не обращает внимания на свидетельство ярлыков. И в конечном счете глаз не так уж неправ, хотя бы потому, что здесь у всего общая цель -- быть замеченным. А в счете самом окончательном, этот город есть настоящий триумф хордовых, поскольку глаза, наш единственный сырой, рыбоподобный орган, здесь в самом деле купаются: они мечутся, разбегаются, закатываются, шныряют. Их голый студень с атавистической негой покоится на отраженных палаццо, "шпильках", гондолах и т. д., опознавая самих себя в стихии, вынесшей отражения на поверхность бытия.
13.
Зимой в этом городе, особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кисеей позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервиз в жемчужном небе. Распахиваешь окно, и комнату вмиг затопляет та уличная, наполненная колокольным гулом дымка, которая частью сырой кислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро,-- ты понимаешь, что не все кончено. Неважно и насколько ты автономен, сколько раз тебя предавали, насколько досконально и удручающе твое представление о себе,-- тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере -- будущее. (Надежда, сказал Фрэнсис Бэкон, хороший завтрак, но плохой ужин.) Источник этого оптимизма -- дымка; ее молитвенная часть, особенно если время завтрака. В такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид, оцинкованные купола и без того сродни чайникам или опрокинутым чашкам, а наклонные профили колоколен звенят, как забытые ложки, и тают в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгущающихся, то тающих в воздухе. При всей пригодности этого места для медовых месяцев, я часто думал, не испробовать ли его и для разводов -- как для тянущихся, так и для завершенных? На этом фоне меркнет любой разрыв; никакой эгоист, прав он или неправ, не сумеет долго блистать в этих фарфоровых декорациях у хрустальной воды, ибо они затмят чью угодно игру. Я знаю, что вышепредложенное может весьма неприятно отразиться на ценах, даже зимой. Но люди любят свои мелодрамы больше, чем архитектуру, и беспокоиться мне не о чем. Странно, что красота ценится ниже психологии, но пока это так, этот город мне по карману -- то есть до самой смерти, возможно, и после.