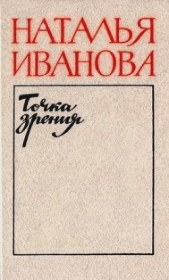Ключ от рая

Ключ от рая читать книгу онлайн
В книгу туркменского поэта и прозаика Атаджана Тагана вошли роман «Крепость Серахс» и три повести. Роман рассказывает о борьбе туркмен и других народов Средней Азии против деспотических режимов Востока — Хивинского, Бухарского ханств и шахского Ирана. Изображая героическую борьбу народа за свою независимость, автор показывает торжество идеи национального единения. В повестях автор создает целый ряд ярких запоминающихся образов, живущих в далеком прошлом, чьи имена чтутся в народе по сей день.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Айпарча говорит, что и Черная Нищенка взялась за поиски лекарства… Странная женщина. Жена встретила ее в степи, за аулом, куда ходила доить верблюдицу. И не одну, а вместе со старым гедаем — с тем, кто одним из первых услышал и благословил Салланчак-му-кам… Они сказали, что знают, у кого есть это редчайшее в свете лекарство. И что отныне у них нет иного желания, как достать его. Не для бренного тела Годжука Мергена, сурово добавил гедай, но для его дутара, который звучит всем. Не для мукамчи, но для всех.
В своих странствиях по земле туркмен Годжук Мерген не раз встречал и гедая, и эту странную, непохожую на других просительницу милостыни — Черную Нищенку. Впервые увидел он ее лет через пять после переезда в предгорный аул. Как-то далеко в пустыне, в небольшом селении-оазисе был он на празднестве, посвященном рождению сразу троих малышей. Уже, после всех необходимых ритуалов, повесили в заполненной народом кибитке три колыбели, уже начал он брать первые ка-кувы колыбельного мукам а, когда снаружи вдруг донеслось:
— Руки ей… руки скрути!
— Пробираться вздумала, негодница!..
Хозяин кибитки разгневанно вскочил, выглянул в дверь:
— Кто посмел там кричать? Что это значит?!
— Да вот, кралась… Отведите ее к бахши. Пусть разберется, мало ли что…
Голоса были встревоженные, даже грозные.
Двое джигитов ввели, придерживая за руки, высокую босоногую женщину в темной накидке, под густой паранджой, и в ожидании стали. Кто-то сзади них возбужденно говорил»
— Она околачивается здесь с тех пор, как прибыл наш бахши. Кто знает, что у нее на уме…
— Выпроводить ее, пусть следует своей дорогой!
— Ну, зачем вы так, — укоризненно, с неловкостью перед ней сказал он. — Отпустите же ей руки. Она ведь женщина, а вы джигиты… Каждый из нас по-своему нищий…
Годжук Мерген сочувственно смотрел на нее, на ее почерневшие, в струпьях ноги, огрубевшие настолько, что уж не нуждались, видно, ни в какой обуви, на грязно-черную, подпоясанную гнилой веревкой одежду, больше схожую с мешковиной, — и опять на ноги ее с загнутыми, темными от грязи ногтями: скорее звериными, нежели человеческими, были эти ноги…
— Сядь, сестра… Кто ты будешь, откуда? Неужто нет у тебя ни родственников, ни родины? Где был дом твой?..
Плечи нищенки вздрогнули, она еще ниже опустила голову. И глуховатый, будто пересохший от жажды голос ее из-под паранджи, помедлив, ответил:
— Дом мой — эта степь, бахши. Постель моя — пески, одеяло — вот это небо над нами, о бахши… Другого не знаю.
— Ты голодна, наверное?
— Голодным среди туркмен не останешься.
— Что привело тебя сюда? Что-то искала ты здесь, сестра?
— Душу, великий мукамчи. Свою потерянную душу…
— Как ты ошибаешься, женщина… не великий я. Только одно я великое знаю — что все мы равны перед жизнью. А душу… Нет, ничего я не смогу тебе сказать, посоветовать. Каждый сам ее теряет, сам и находит. Что ж ты хочешь сейчас, на этом празднике?
— Ничего. Если только позволишь, бахши, я посижу здесь, послушаю тебя…
— Да разве я могу не позволить, сестра?! Я рад тебе, как рад любому слушателю… Садись и слушай.

И зазвенел, запел дутар — и будто раздвинулась тесная кибитка, отдав стены горизонту и купол свой небу; или, может, это весь мир стал огромной кибиткой, домом человеку и всему живому, и под самым его туйнуком небесным потекла, заструилась, как в мареве, песня, музыка…
Ты родился на этой священной земле,
На прекрасной земле, на злосчастной земле.
Низко склонившись над дутаром и покачиваясь, пел мукамчи о всех, пришедших на эту землю, родством жизни самой, ее счастьем и тоской объединенных, — о человеке пел:
И в предутренней мгле неизвестны пути,
Что в грядущие годы придется пройти.
О явившийся в мир! Может быть, это ты
Станешь словом земли, воплощеньем мечты.
До тебя ей пришлось испытать маету,
Век от века копить суету и тщету.
Если б вовремя ты не явился на свет,
Веткам сада пришлось бы плодить пустоцвет.
До тебя было делом привычным ее
В братских распрях кормить в ковылях воронье.
Ты — бальзам наших душ, наша радость, и боль,
И надежда, и вера, и свет, и любовь!
О рожденные в муках под вечной звездой
Средь надежд и печалей пустыни седой, —
Сын, ты ночь на земле помоги превозмочь!
Освети эту землю терпением, дочь!
Так кричи же, младенец, в кромешной ночи,
О любви и надежде народа кричи!
Пел и, подымая голову, видел все разгоравшуюся сквозь темную, как горе, паранджу сияющую двойную звезду — там, где свет глаз скрестился со слезами, преломился в слезах… И эта двойная звезда вела мукамчи, из темных перепутьев души человеческой выводила на простор и сама же была самой лучшей наградой за этот тяжелый и долгий путь…
К ночи ближе, когда праздник продолжался уже на улице селения, нищенка осторожно поднялась и тихо отошла от толпы пирующих. Ее провожали лишь глаза Годжука Мергена. Она шла небыстро и все отдалялась, отдалялась, пока совсем не растворилась в подступающей темноте пустыни. И никто не знал, кто она и куда шла. И никто об этом не спрашивал.
13
Перебирая палки-оклавы с метками человеческих жизней на них, далеко унесся мыслями старый мукамчи. Из забытья вывел его детский голос с порога;
— Ата, саломалейкум!..
Старик повернул голову ко входу, пригляделся. Мальчик лет семи робко поглядывал на него, не решаясь пройти дальше.
— Валейкумэссалом, сынок! — Он обрадовался, что появилась наконец-то живая душа возле него. Всю жизнь провел он с людьми и не любил даже краткого одиночества — кроме разве что случаев, когда складывался, рождался в душе новый мукам. — Что же ты остановился? Проходи и садись, будь гостем, раз пришел. Гость — это дар судьбы, и не должен он стесняться. — И шутливо добавил: — Пусть хозяин суетится, а не гость…
Мальчик учтиво, как его учили, поклонился и прошел в кибитку, сел перед хозяином.
— Кто же ты будешь, сынок? Что-то не помню я тебя средь ребятни аула.
— Мама сказала, ата, что ты меня вспомнишь…
— А кто же твоя мать, кто отец? Откуда вы?
— Мы приехали вчера только… мы будем теперь в вашем ауле жить. Как твое здоровье, ата? Мама мне сказала… Велела мне спросить, можно ли ей с отцом прийти к тебе сегодня?
— Конечно, сынок. Мой порог никому не заказан. Но кто же вы?
— Мы… мы дехкане. А мама сказала, что ты все вспомнишь, если я скажу… — Мальчик поднял глаза к туйнуку, старательно припоминая. — Если я скажу про несъе-мукам [118]…
— Несъе-мукам?!.. В долг? Кому же это я мог дать песню в долг?.. Ах, вон оно что! А я уж и совсем было забыл про это. Да, был такой Салланчак-мукам, спетый в долг… Так ты, выходит, сын ее?! — Годжук Мерген тихо и счастливо рассмеялся. — Ах, как порадовал ты меня, сынок!.. Ты живешь, мальчик мой, и что мне еще надо?! И у тебя есть братишки, сестренки?
— Да, ата. Целых двое. Но они маленькие еще.
— Целых двое?! — Старый мукамчи сам радовался как ребенок. — Надо же! Да-а, я спел колыбельную над тобой, когда тебя, сынок, еще и в помине не было… Дай мне хотя бы дотронуться до тебя. Какой ты большой, совсем уж джигитом стал…
И поднял свою немощную руку, ладонью коснулся теплых волос немного растерянного, удивленного и почтительно глядящего на него мальчика…