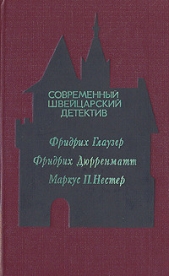Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн

Homo Фабер. Назову себя Гантенбайн читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Перестань!
Конечно, у гостя, поскольку речь идет не о его ребенке, а о его сигаре, больше юмора, чем у Гантенбайна; однако это, как он констатирует, была его последняя гавана, и он не сразу вспоминает, о чем только что говорили. Пауза. Так о чем говорили? Лиля бастует, обиженная как мать; отсюда ее утешающий взгляд в сторону ребенка, который, в конце концов, еще ребенок…
— Папа нехороший.
Такое бывает.
— Я хочу другого папу.
Это уже чересчур, находит и Лиля, хотя как раз это дает пищу юмору гостей. Теперь одергивает ребенка, причем угрожая наказать его, Лиля. Таких слов Беатриче не смеет говорить. Что она хочет другого папу. За это она платится десертом. В таких случаях Лиля очень строга. И Гантенбайн молча чистит банан — ребенок ведь не так уж неправ: может быть, этот человек, который вслепую чистит банан, действительно не ее папа… Но как бы то ни было: телевидение, вот о чем говорили, телевидение как орудие идеологической промышленности и вообще искусство в технический век, в особенности телевидение, по этому поводу у каждого есть что сказать, кроме Гантенбайна с набитым бананом ртом.
Я представляю себе:
Вообще же все идет прекрасно, Лиля и Гантенбайн с ребенком, устраиваются прогулки, и ребенок есть ребенок, и Гантенбайн с Лилей поднимают его за ручки, чтобы он покачался, и Лиля держит полную ложку и рассказывает историю о возе сена, который хочет проехать в сарай, и, когда ребенок устает, Гантенбайн сажает его к себе на плечи, изображает верховую лошадку, а когда эта пора проходит, появляются другие игры, однажды и коклюш, и настает черед Макса и Морица, и купанье летом, и санки зимой, всему свое время, и Лиля покупает ребенку юбочки с большим вкусом, Гантенбайн рассказывает о всемирном потопе и о ковчеге, они смеются над детскими словечками, а когда Лиля уезжает на гастроли, она звонит, чтобы поболтать с Беатриче, и не забыть, как Беатриче сидела на пони, и появляется флейта и т. д., и так уж много говорить друг с другом Лиле и Гантенбайну не надо, ребенок почти всегда рядом, и, когда Беатриче хочет узнать, откуда берутся дети, ей говорят это так и этак…
Я представляю себе:
Анекдот об их первой встрече в уборной Лили, Гантенбайн в роли восторженного слепого с розами, почти соответствует действительности, но не целиком — как всякий анекдот… Лиля, конечно, жила тогда не без спутника, что, однако, Гантенбайна нисколько не трогало. В этом смысле правильно, что в анекдоте, который Лиля так любит рассказывать, он не упоминается. Этого спутника Лили, который тогда сидел в ее уборной, Гантенбайн действительно не видел. А ведь человек этот все время сидел (хоть и не в анекдоте, но все-таки в действительности), правда не у ее гримировочного стола, однако все же достаточно зримо в единственном удобном кресле, молча, листая газету, в шляпе, широко расставив ноги и не сомневаясь в том, что он налицо. Так он сидел. Предмет комнатной обстановки. Мужчина во цвете лет, прежде очень влюбленный в Лилю, теперь в стадии зрелой любви, готовый без нетерпения к женитьбе, в шляпе. И когда Гантенбайн проделывал свой очень беспомощный и лишь в анекдоте убедительный номер с розами, он даже не слушал, этот человек в шляпе, который, кажется, знал ее потребность в слепом поклонении. Ему достаточно было только кашлянуть, чтобы испугать слепого поклонника. Но поднимая глаз от газеты, он потом спросил между прочим: «Что это была за птица?» Он сказал «птица», что Лилю чуть-чуть обидело. Как-никак это был восторженный почитатель. Без шляпы на голове. Она промолчала. В пользу Гантенбайна. Он действительно видел тогда только Лилю. Более простого доказательства, что он слепой, он не смог бы сыграть… Позднее он, конечно, узнал, что Лиля жила не одна; но было уже поздно оглядываться; в ее уборной уже никто не сидел. Только кресло, где он, наверно, сидел тогда, было на месте. И в нем сидел теперь Гантенбайн. А там, на сцене, Лиля играла все еще прежнюю роль. Листать газету, покуда в зале не раздадутся аплодисменты, Гантенбайн позволить себе не мог, потому что Лиля верила в его слепоту; она любила его из-за его слепоты. Он видел телеграммы, торчавшие вокруг ее зеркала, поздравления, частью пожелтевшие; он видел себя самого в ее зеркале: влюбленный, который слепо ждет, покуда в зале гремит овация. Так каждый вечер, потом вдруг приходила Лиля: переодетая, вдобавок с чужими волосами, кукла отчасти, красивая, но загримированная для прожекторов, красивая на расстоянии, брови синие, веки зеленые, щеки желтые, ее лицо так огрублено, так красиво огрублено, даже глаза были у нее увеличенные; втайне Гантенбайн каждый раз пугался. Как какой-то птицы. Уборная была слишком мала; Лиля еще на крыльях роли, но без текста. Как прошел спектакль? — спрашивал он, чтобы услыхать ее голос. Только голос был Лилей. Потом она снова выходила на сцену; все еще хлопали. Демонстративно. Словно хотели сообщить слепому Гантенбайну, как великолепна женщина, которую он любит. Так каждый вечер. Он гордился, понятно, и откупоривал тем временем маленькую бутылку шампанского. Гордился чем? Одновременно он казался себе лишним. Гантенбайн не мог хлопать; возможность поклоняться была у него отнята. Он наполнял ее стакан, это было все, что он мог делать. Всякая овация когда-нибудь да стихает, и тогда Лиля радовалась его любви, пила шампанское, Лиля у гримировочного стола, а Гантенбайн сидел в единственном удобном кресле, оснащенный темными очками слепого. Он видел, как Лиля стирала грим ваткой, Лиля в шелковом халате, Гантенбайн со своей черной палочкой. Так сидел он в ее уборной, слепой, но присутствующий. Лиля как всегда после спектакля: усталая, взволнованная, рассеянная. Она не слышала стука, и господин, который вошел, не дожидаясь ответа, кажется, знал, что Гантенбайн слепой; он даже головой не кивнул. Словно Гантенбайна не было в уборной, словно он отсутствовал. Он мог быть главным режиссером театра, этот господин, который не чувствовал себя связанным какими-либо приличиями. Господин на исходе цветущих лет. Поскольку Лиля его не увидела, ибо как раз закрыла глаза, чтобы стереть грим с век, Гантенбайн сказал: «По-моему, стучали». Но Лиля не слышала стука, а господин, убежденный, что Гантенбайн его не видит, не подавал голоса, когда Лиля бросала в корзинку для бумаг грязные ватки, все более и более готовая к разговору с Гантенбайном. Занятая своими пальцами, которые она чистила тряпочкой, она спросила, куда они пойдут ужинать, и просто не замечала, что в уборной еще кто-то есть. Какие у него, Гантенбайна, сегодня новости? Можно было подумать, что тот, другой, пришел, чтобы вынуть из кармана револьвер и выстрелить в Лилю, но растерялся и молчит, словно это делает его при Гантенбайне невидимым; а может быть, он хотел только поговорить с Лилей. С глазу на глаз. Он был бледный, небритый, утомленный бессонной ночью. Гантенбайн все еще не мог придумать, где бы поужинать, и молча гладил собаку; Пач был неспокоен, насторожен. Все это не продолжалось и минуты, но тянулось бесконечно. Только когда Лиля наклонилась вперед к зеркалу, чтобы рассмотреть свои ресницы, она испугалась, и ее тонкие пальцы, собиравшиеся было потереть виски, застыли перед человеком в зеркале. Она узнала его. Лиля тоже не сказала ни слова, чтобы оставить его невидимым. Ее лицо, которое Гантенбайн видел, не оставляло сомнений: это, значит, был тот человек, которого Гантенбайн тогда не видел. Теперь без шляпы. И показать теперь, что он не слепой и понимает ситуацию, было бы подлостью. Поэтому он гладил собаку. Молчание и с его стороны могло бы его выдать; он стал предлагать, куда пойти поужинать, Гантенбайн, единственный, кто нарушил молчание. Когда Лиля обернулась, тот человек покинул не только зеркало, но и уборную. Без слов. Его приход, показавшийся было смешным, оставил скорее жутковатое впечатление. Ведь Гантенбайн не мог же теперь спросить: «Кто это был?» К тому же он это знал, а что означал этот визит, кажется, и Лиля не знала. Ему было жаль ее: она побледнела от испуга. Но Гантенбайн не нашелся что сказать; в конце концов он тоже испугался, и его испуг следовало скрыть. Чего хотел тот, другой, было, в сущности, ясно: он хотел вернуть себе свою Лилю. Свою! Вот что придавало ему такой яростный вид, только это немое притязание во взгляде, отчего и возникла мысль о револьвере, а отсюда и растерянность, такая же, как у него самого. Лиля наверняка ни разу не видела его таким. Теперь она поднялась, все еще бледная от испуга, и заперла на задвижку дверь уборной, после чего Гантенбайн, чтобы отвлечь ее, рассказал о новой забавной проделке своего Пача, такой же выдуманной, как все другие, что не мешало Пачу гордо вилять хвостом; но напрасно, Лиля цепенела все больше и больше, наверно от мысли, что тот ждет ее у выхода со сцены, спрятавшись в темном заднем дворе. Это было вполне возможно. Притом револьвера у него, безусловно, не было; у него только вид был такой; он пришел не застрелить ее, а жениться на ней. Слишком поздно… Когда в дверь постучали, Лиля не пожелала отпереть; сделать это должен был Гантенбайн. И он это сделал, удобный случай показать себя мужчиной. Это была всего-навсего костюмерша; она передала письмецо, которое Лиля сразу вскрыла и прочитала, но потом не засунула в раму своего зеркала. Когда наконец накладные волосы были сняты, она внимательно поглядела на Гантенбайна, словно впервые усомнившись в его слепоте, не уверенная, что он действительно ничего не видел, теперь при своих собственных волосах и красивая, явно успокоенная письмецом, избавленная от страха, что ее поджидают в заднем дворе. А потом они пошли ужинать, Лиля и Гантенбайн, который разделывал ей форель, как всегда. А потом они пошли домой. И когда Гантенбайн невзначай спросил, не слыхала ли она чего-нибудь о своем прежнем приятеле, она откровенно сказала, что он возвратился, да, он в этом городе. Она видела его, но не говорила с ним. Ее ответ звучал так же непринужденно, как его вопрос, а то, о чем Лиля умолчала, ее смятение, он видел…