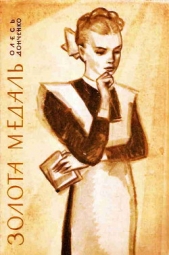Золотая тетрадь

Золотая тетрадь читать книгу онлайн
История Анны Вулф, талантливой писательницы и убежденной феминистки, которая, балансируя на грани безумия, записывает все свои мысли и переживания в четыре разноцветные тетради: черную, красную, желтую и синюю. Но со временем появляется еще и пятая, золотая, тетрадь, записи в которой становятся для героини настоящим откровением и помогают ей найти выход из тупика.
Эпохальный роман, по праву считающийся лучшим произведением знаменитой английской писательницы Дорис Лессинг, лауреата Нобелевской премии за 2007 год.
* * *
Аннотация с суперобложки 1
Творчество Дорис Лессинг (р. 1919) воистину многогранно, среди ее сочинений произведения, принадлежащие к самым разным жанрам: от антиколониальных романов до философской фантастики. В 2007 г. Лессинг была присуждена Нобелевская премия по литературе «за исполненное скепсиса, страсти и провидческой силы постижение опыта женщин».
Роман «Золотая тетрадь», который по праву считается лучшим произведением автора, был впервые опубликован еще в 1962 г. и давно вошел в сокровищницу мировой литературы. В основе его история Анны Вулф, талантливой писательницы и убежденной феминистки. Балансируя на грани безумия, Анна записывает все свои мысли и переживания в четыре разноцветные тетради: черная посвящена воспоминаниям о минувшем, красная — политике, желтая — литературному творчеству, а синяя — повседневным событиям. Но со временем появляется еще и пятая, золотая, тетрадь, записи в которой становятся для героини настоящим откровением и помогают ей найти выход из тупика.
«Вне всякого сомнения, Дорис Лессинг принадлежит к числу наиболее мудрых и интеллигентных литераторов современности». PHILADELPHIA BULLETIN
* * *
Аннотация с суперобложки 2
Дорис Лессинг (р. 19119) — одна из наиболее выдающихся писательниц современности, лауреат множества престижных международных наград, в числе которых британские премии Дэвида Коэна и Сомерсета Моэма, испанская премия принца Астурийского, немецкая Шекспировская премия Альфреда Тепфера и итальянская Гринцане-Кавур. В 1995 году за многолетнюю плодотворную деятельность в области литературы писательница была удостоена почетной докторской степени Гарвардского университета.
«Я получила все премии в Европе, черт бы их побрал. Я в восторге оттого, что все их выиграла, полный набор. Это королевский флеш», — заявила восьмидесятисемилетняя Дорис Лессинг журналистам, собравшимся возле ее дома в Лондоне.
В издательстве «Амфора» вышли следующие книги Дорис Лессинг:
«Расщелина»
«Воспоминания выжившей»
«Маара и Данн»
«Трава поет»
«Любовь, опять любовь»
«Повесть о генерале Данне, дочери Маары, Гриоте и снежном псе»
«Великие мечты»
Цикл «Канопус в Аргосе: Архивы»
«Шикаста»
«Браки между Зонами Три, Четыре и Пять»
«Сириус экспериментирует»
«Создание Представителя для Планеты Восемь»
«Сентиментальные агенты в Империи Волиен»
Готовится к печати:
«Кошки»
* * *
Оригинальное название:
DORIS LESSING
The Golden Notebook
* * *
Рисунок на обложке
Светланы Кондесюк
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
За последний год, читая все эти рассказы, эти романы, в которых можно иногда вдруг натолкнуться на отдельные правдивые абзацы, предложения, фразы, я была вынуждена признать, что вспышки подлинного искусства всегда основаны на глубоком, внезапно сильном, трудно определяемом и очень личном переживании. Даже в переводе невозможно не распознать эти все озаряющие вспышки подлинного личного переживания. И я читаю всю эту мертвечину и молюсь, чтобы хотя бы раз мне встретился рассказ, роман, даже статья, написанные полностью на основании этих подлинных и очень личных переживаний.
Вот в этом-то и заключается весь парадокс: я, Анна, отвергаю свое собственное «нездоровое» искусство; но я так же отвергаю «здоровое» искусство, когда я его вижу.
Все дело в том, что все эти произведения по своей сути обезличены. Их банальность — это банальность обезличенности. Как будто мы наблюдаем за работой Анонима Наших Дней.
С тех пор как я вступила в партию, моя «партийная работа» по большей части состояла в том, что я читала лекции по искусству для небольших аудиторий. Я говорила что-то в этом роде: «Искусство в Средние века не было индивидуальным, оно было общинным; оно основывалось на общественном сознании. Ему был неведом болезненный индивидуализм, служащий основной движущей силой искусства капиталистической эры. И настанет такой день, когда и мощный эготизм индивидуального искусства тоже останется в прошлом. Мы снова вернемся к такому искусству, которое будет выражать не внутренние противоречия человека и не его обособленность от своих же собратьев, но его ответственность за других людей, его братские по отношению к ним чувства. Западное искусство, обозначим его этим расхожим именем, так вот, западное искусство все больше и больше напоминает пронзительный вопль муки, испускаемый душой, фиксирующей собственную боль. Боль становится нашей глубинной и подлинной сущностью, нашей реальностью…» Я говорила что-то в этом роде. Около трех месяцев назад я стала заикаться в середине лекции и не смогла ее закончить. Больше я лекций не читала. Я знаю, что значит это заикание.
Мне вдруг подумалось, что я пришла работать к Джеку, сама того не ведая, лишь потому, что хотела, чтобы моя личная глубокая обеспокоенность вопросами искусства, литературы (и, следовательно, жизни), моим отказом еще писать попали в фокус, оказались в самом центре моего внимания, когда я буду вынуждена всем этим заниматься, упорно, день за днем.
Я обсуждаю это с Джеком. Он слушает и понимает. (Он всегда все понимает.) И он говорит:
— Анна, коммунизму нет еще и четырех десятилетий. До сих пор искусство, им порожденное, было и остается никудышным. Но почему же ты не можешь допустить, что это первые шаги ребенка, который еще только учится ходить? А через столетие…
— …или через пять, — говорю я, дразня его.
— А через столетие, возможно, народится новое искусство. А почему бы нет?
И я говорю:
— Не знаю, что и думать. Потому что я начинаю опасаться, что я все время несла чушь. Ты понимаешь, что все наши споры, все дискуссии всегда вращаются вокруг одного и того же? Это — индивидуальное сознание, индивидуальная чувствительность.
И он меня поддразнивает, говоря:
— И это индивидуальное сознание и породит твое веселое и бодрое, общественное и не эгоистическое искусство?
— А почему бы нет? Возможно, индивидуальное сознание — это тоже лишь ребенок, который пока учится ходить?
И он кивает; и этот кивок значит: да, все это очень интересно, но нам пора уже вернуться к работе.
Чтение всех этих груд плохой и мертвой литературы — лишь небольшая часть моей работы. Потому что, помимо чьих-либо намерений и ожиданий, моя работа превратилась в нечто совсем другое. Это — «социальная благотворительность». Так шутит Джек, так шучу я; и еще Майкл: «Что нового на социальном фронте, Анна? Удалось спасти еще хотя бы несколько заблудших душ?»
Прежде чем заняться «социальной благотворительностью», я спускаюсь в туалет, крашусь, подмываюсь и размышляю, а не было ли это решение, к которому я только что пришла, — выйти из партии — порождено тем фактом, что сегодня я думаю яснее, чем обычно, потому что я решила подробно описать весь этот день? Если это так, то кто та Анна, которая будет читать написанное мной? Кто та другая, чьих суждений и осуждений я боюсь; или, по меньшей мере, чей взгляд на жизнь отличается от моего, когда я не пишу, не думаю, не отдаю себе отчета во всем происходящем. И может, завтра, когда другая Анна внимательно посмотрит на меня, я решу, что мне не стоит выходить из партии? С одной стороны, мне будет не хватать Джека — с кем еще смогу я обсуждать, и без купюр, все эти проблемы? Конечно, с Майклом — но он уходит от меня. И, помимо этого, с ним все эти разговоры сопровождает чувство горечи. Но вот что интересно: Майкл — бывший коммунист, предатель, погибшая душа; Джек — бюрократ от коммунизма. В некотором смысле Джек — убийца друзей Майкла (впрочем, как и я тогда, ведь я же тоже в партии). Именно Джек клеймит Майкла в качестве предателя. И именно Майкл клеймит Джека в качестве убийцы. И все же только с этими мужчинами (а ведь эти двое, если б повстречались, от недоверия и слова бы друг другу не сказали) могу я говорить, и именно они способны понять все мои чувства. Они — составляющие части одной и той же истории. Я стою в туалете и наношу капельки духов на тело, чтобы победить затхлый запах истекающей из меня крови, и неожиданно я понимаю: а ведь то, что я думаю о Майкле и Джеке, и есть мой кошмар о расстрельной команде, и об узниках, меняющихся местами. Я смущена, я чувствую головокружение, и я иду наверх в свой кабинет, и я сажусь за стол и резко отодвигаю от себя груды лежащих на столе журналов: «Вокс», «Советская литература», «Народы, пробуждайтесь для свободы!», «Возрожденный Китай» и так далее, и так далее (то зеркало, в которое я смотрелась больше года), и я понимаю, что больше уже не могу это читать. Я просто не могу это читать. Я на этом умерла, и все это умерло на мне. Посмотрю, что ждет меня сегодня «на социальном фронте». И когда я в своих мыслях дохожу до этой точки, входит Джек, потому что Джон Батт теперь уже уехал обратно в штаб, и он говорит:
— Анна, не согласишься выпить со мной чаю с сэндвичами?
Джек живет на официальную партийную зарплату, что составляет восемь фунтов в неделю; а его жена учительница, и зарабатывает она примерно столько же. Поэтому он должен экономить; и один из способов сэкономить деньги — не выходить на ленч, а приносить что-то из дома, чтобы на работе перекусить. Я его благодарю, иду к нему, и мы с ним беседуем. Но не о двух тех романах, потому что о них нам больше нечего сказать: их напечатают, и нам обоим стыдно, каждому — по-своему. Друг Джека только что вернулся из Советского Союза, в приватном разговоре он рассказал Джеку о царящем там антисемитизме. И пересказал слухи об убийствах, пытках, о всяческих запугиваниях. И вот мы с Джеком сидим и проверяем каждый кусочек информации: а это правда? Звучит ли это правдоподобно? А если это правда, то это означает, что… И в сотый раз я удивляюсь тому, что этот человек — часть бюрократической системы коммунизма, а, между тем, он понимает не больше моего и не больше, чем коммунист любого звания и ранга; чему же верить, а чему — не верить. Мы наконец решаем — и далеко не в первый раз, — что скорее всего Сталин был сумасшедшим, клиническим. Мы пьем чай с сэндвичами и размышляем вот на какую тему: если бы мы жили в Советском Союзе последних лет правления Сталина, сочли бы мы своим долгом убить его по политическим мотивам. Джек говорит, что нет; Сталин — неотъемлемая часть его жизненного опыта, его самого глубинного опыта, и что даже если бы он точно знал, что Сталин преступно безумен, то, когда пришло бы время спустить курок, он просто бы не смог: он лучше обратил бы ствол револьвера на самого себя. И я говорю, что я тоже не смогла бы, потому что «убийство по политическим мотивам противоречит моим принципам». Ну и так далее, и тому подобное; и я думаю, насколько ужасен весь этот разговор, и насколько он нечестен, потому что мы с Джеком находимся в комфортабельном и безопасном, в процветающем Лондоне и нашим жизням и нашей свободе вообще ничто не угрожает. И происходит кое-что еще, то, что меня пугает все больше и больше, — слова теряют свой смысл. Я слышу наш с Джеком разговор, — слова как будто выходят изнутри меня, из какого-то там места без названия, — но они не значат ничего. Я постоянно вижу, они буквально встают перед моими глазами — картины смерти, пыток, перекрестных допросов, — того, о чем мы говорим; и слова, которые мы произносим, никак не связаны с тем, что я вижу. Они звучат как бессвязное бормотание, как лепет сумасшедшего. Внезапно Джек спрашивает: