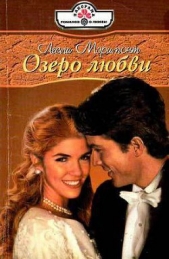Великая мать любви (рассказы)

Великая мать любви (рассказы) читать книгу онлайн
Рассказы. Тексты публикуются в авторской редакции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я назвал его много раз «вор», «урка», и лишь сейчас с удивлением понял, что тогда он, пятнадцатилетний или шестнадцатилетний, не мог быть таким вот сложившимся, полным достоинства, беспорочным, гордым вором. На его счету в тот год было еще немного преступлений, горстка и, по всей вероятности, нестрашных, подростковых: украденный мотоцикл, подвернувшаяся касса… Однако как характер он уже возник и сложился в деталях, от безукоризненно начищенных туфель до умения всегда быть центром, арбитром, уравновешенным взрослым, со своим секретом в сердце, среди бахвалящихся и обсуждающих баснословные, готовящиеся свои подвиги подростков. Тогда, в 1958–1964 гг., на стыке двух эпох, блистательный образ урки еще влиял на молодежь и разговоры о готовящихся «больших делах» были куда более частыми, чем разговоры о девочках, или танцульках, или выборе серьезной профессии. Уже несколько мальчиков из моего класса планировали идти учиться в институты, да, но у Стахановского говорили о «больших делах», и гитары если звучали в темноте подворотен и в скверах по вечерам, то песни были блатные: «Ровные пачки советских червончиков с полок глядели на нас…»
Толмачев никогда не говорил о делах, и тем более о больших делах. Он презирал Костю Бондаренко по кличке Кот, майорского сына, моего подельника, с которым я «ходил на дела», за суетливую занятость деталями: за коллекцию отмычек, ломиков, за «духарение». («Не духарись», — говорили, имея в виду «не выпендривайся, не суетись».) Он даже сумел меня обидеть, сам наверняка этого не желая, когда, встретив нас однажды с Костей вечером, с рюкзаками на темной улочке, называл нас «котами»… «Ну что, коты, опять на дело идете?» — сказал он и скрылся в темноте. Вооруженные ломиками и отмычками, мы и впрямь шли на дело.
Он всегда был готов к преступлению, то есть у него была воровская хватка. Однажды мы зашли с ним в столовую. Приблизившись к кассе, платить, кассирши мы не увидели. Ее голос раздавался из открытой двери, и был виден кусок белого халата. Бросив лишь один взгляд вокруг, Толмачев бесшумно переметнулся на другую сторону прилавка. Секунды понадобились ему, чтобы, сорвав с себя пиджак, вывалить на него содержимое кассового ящика. Перепрыгнув обратно, он бросил мне «Атас!», и, выскочив на улицу, мы смешались с толпой… Это не бог весть какое преступление, но реакция у него была удивительная. Воровской взгляд — это и есть главный талант вора. Мгновенная оценка обстановки, мгновенный выбор. Сейчас или позже… Акшэн! В поселке встречались ребята свирепые и дикие. Борька Ветров, наш с Толмачевым одноклассник когда-то, сын возчика (отец его держал лошадь во дворе собственного дома), не сумел дожить даже до 21 года, таким он был резким, этот тип. В перерывах между сроками Ветров, пьяный, «дурил» и однажды в том же сквере у Стахановского, где салтовские ребята прогуливались, выстрелил в своего же парня, за здорово живешь, просто так, выстрелил и уложил наповал. Во время второго суда он, сложив руки над головой, ласточкой выпрыгнул с третьего этажа в незарешеченное стекло окна, остался жив и убежал. На роковой и последний срок в криворожский лагерь сел он, однако, не за убийство, но за ограбление окраинной сберкассы, в которой обнаружил всего лишь 130 рублей… Толик Резаный сбежал из колымского лагеря и, пересекши всю Сибирь, явился в Харьков, чтобы быть арестованным, в квартире родителей своей подружки. Был великолепный Юрка Бембель, посаженный в пятнадцать лет на пятнадцатилетний срок за вооруженное ограбление, вышедший по половинке срока в 23 года и расстрелянный в 24! Какие люди, а! Однако все они были скорее пылкими жертвами судорожной эпохи, истеричными Гамлетами… Вором же настоящим был Толмачев.
У него были свои принципы. Когда однажды моя мать, озабоченная до отчаянья моим поведением, тем, что улица уводит у нее сына, бросилась ко мне у Стахановского и стала кричать, звать, молить, плакать, чтоб я пошел с ней домой… я, раздраженный, стесняясь уронить свое мужское достоинство на глазах всей стаи молодых волков, заорал: «Дура! Проститутка! Отъебись от меня!» И неожиданно получил резкий апперкот в живот от стоявшего до сих пор рядом, не вмешиваясь, приятеля. «Это твоя мать, Сова, мудак… — сказал он строго. — Она тебя родила. На мать не тянут. Мать у человека одна…» И все, он отошел. И сплюнул.
Осенью 1961-го у нас появилась общая проблема. «Мусора» начали очередную кампанию по борьбе с молодежной преступностью. И мы с ним оказались рядом по алфавиту в мусорском списке… «С» и «Т». Толмачев заслуживал их внимание много больше, чем я, я не заслуживал находиться в его категории, но так как он не был истериком, но, спокойный и секретный, делал свои дела или один, или с очень странным молодым человеком по кличке Баня, то мусора занизили его в должности. Они стали лечить нас. Толмачева лечить было поздно. «Лечить» — было модное вдруг слово из «фени» — то есть блатного жаргона. «Что ты меня лечишь?», «Ты меня не лечи!» — такие фразы каждый день сотни раз вспарывали пыльный воздух над нашей пыльной Салтовкой…
Мусора решили прежде всего убрать нас с улицы. Нас стали устраивать на работу. Когда мы дали «вторую подписку» (то есть подмахнули наши подписи под нечленораздельным текстом «обязуюсь… в …дневный срок устроиться на работу… в противном случае… сознаю… что подлежу административной высылке или…») и выходили из отделения милиции на Материалистическую, в красивую украинскую осень, Толмачев сказал мне, взяв меня за рукав:
— Слушай, Сова, есть идея! Пойдем грузчиками к еврею на продбазу, а? Ясно, что мусора с нас не слезут, а на продбазе хотя бы работка непыльная и возле жратвы, а? Пойдем?
— Грузчиками? Ты думаешь, нас возьмут?.. Саню бы Красного или Леву они бы тотчас взяли, а нас с тобой… — Я хотел сказать ему, что мы с ним мелковаты для грузческой работы, но воздержался.
— Амбалы, как Саня или Лева, потом изойдут через два часа, Сова… — сказал он снисходительно. — Они рыхлые и жирные. Для грузчиков у нас с тобой самая подходящая комплекция. Ты когда-нибудь что-нибудь грузил уже?
— Соседям помогал вселяться, картошку грузил на Черном море в Туапсе, но чтобы ежедневно, профессионально, нет…
— Если ты думаешь, что я больше двух месяцев собираюсь рогом упираться, то ты ошибаешься. Надо, чтоб мусора забыли о нас, так что прикинемся грузчиками. Один я не хочу идти, от скуки охуеешь, но если ты пойдешь…
Мы остановились. Тенистая под каштанами, уходила в перспективу низкая, как уютное помещение, улица Материалистическая. Осень была самым лучшим временем года в Харькове. Долгая, красивая, многообразно окрашенная, широколиственная… И в такую осень устраиваться на работу… Мы оба вздохнули. Однако было ясно, что другого выхода нет. На каждого из нас в отделении милиции была заведена пухлая папка. И мы уже перевалили из «трудных подростков» с криминальными тенденциями и с десятком «задержаний», «приводов» и арестов на каждого во взрослую категорию «подозреваемых в ограблении» тех и этих магазинов и «закоренелых антисоциальных элементов»…
— Грузчиками так грузчиками, — сказал я. — Все же лучше, чем сто первый километр и принудительная работа в колхозе…
— Будем пиздить продукты, — сказал он мне в утешение. — Продбаза богатая…
На следующий день мы встретились у Стахановского клуба и отправились, не выспавшиеся, зевая, в отдел кадров учреждения с таким длинным названием, что его хватило бы, если рассечь, на три или даже пять нормальных названий. Учреждение помещалось у самого поворота 24-й марки трамвая на Сталинский проспект, в свежем дворике, в одном из типичных украинских домиков-хаток. Выбеленные известкой, снаружи они кажутся хрупкими и временными, но, попадая внутрь, удивляешься их стационарной солидности. Пройдя через целую анфиладу маленьких проходных клеток, в одной, по клавишам чудовищно дряхлой пишущей машинки, трудно ударяла толстыми пальцами секретарша, Толмачев уверенно привел меня в комнату, половину которой занимала печь. За столом, в меру пошарпанном и в сухих чернильных пятнах, сидел старикан в больших очках и, содрав с опасно торчащей вверх пики розовую квитанцию, вглядывался в нее.