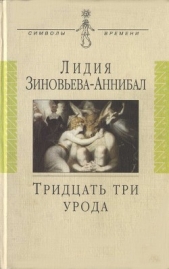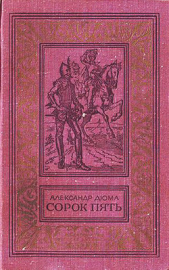Первая любовь, последнее помазание

Первая любовь, последнее помазание читать книгу онлайн
Его первая книга, предлагаемая вашему вниманию, получила премию Сомерсета Моэма за лучший дебют.
В своих ранних рассказах автор демонстрирует широкий спектр стилистических экспериментов «Это была для меня своего рода лаборатория, — говорил он в интервью, — способ опробовать различные регистры, найти себя как писателя» В макьюэновской лаборатории правнук выдающегося математика-любителя XIX века повторяет прадедовы опыты в области стереометрии человеческих тел, подростки устраивают мужское троеборье (курение — выпивка — женщины), а жертва тяжелого детства дает интервью не вылезая из шкафа. Три рассказа из этого сборника были экранизированы — заглавный, «Стереометрия» и «Бабочки» (дважды).
Впервые на русском — причем в исполнении Василия Арканова, которому мы обязаны блистательными переводами романов Джонатана Сафрана Фоера «Полная иллюминация» и «Жутко громко запредельно близко».
Впервые на русском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Рано утром по просьбе брата я отношу кофе к Дженни в комнату. Когда я вхожу, она уже одета и сидит за столом, наклеивая марки на конверты. Она мне кажется меньше, чем вчера. Окно настежь распахнуто, и пахнет утренней свежестью, и чувствуется, что встала Дженни давно. В окне видна река, петляющая между деревьями, ясная и безмятежная на солнце. Меня тянет к ней, тянет проверить лодку до завтрака. А Дженни хочет поговорить. Она усаживает меня на кровать и просит рассказать о себе. Но вопросов не задает, а я не знаю, с чего обычно начинают рассказ о себе, поэтому просто сижу и смотрю, как она пишет адреса на конвертах и отпивает кофе. Но я не против, мне нравится в комнате у Дженни. Она повесила на стену две картинки. Одна в рамочке — это фотография обезьяны в зоопарке, идущей по ветке вверх ногами с детенышем, который вцепился ей в живот. Про зоопарк ясно, потому что в нижнем углу видна бейсболка служителя и часть его лица. Другая — цветной снимок, вырезанный из журнала: двое детей бегут по берегу моря, держась за руки. Солнце садится, и на снимке все ярко-красное, даже дети. Это очень хороший снимок. Она заканчивает надписывать конверты и спрашивает, где моя школа. Я рассказываю про новую, в которую пойду после каникул, — большую общеобразовательную в Рединге. Правда, я там ни разу не был, поэтому рассказывать особенно нечего. Она замечает, что я снова смотрю в окно.
— На речку хочешь?
— Да, лодку проверить.
— Можно с тобой? Покажешь мне реку?
Я стою у дверей, дожидаясь, пока она втиснет круглые розовые ступни в маленькие плоские туфли и расчешет свои коротко стриженные волосы щеткой с зеркальцем на обратной стороне.
Мы идем по лужайке к калитке в дальнем конце сада и по тропинке через заросли высокого папоротника. На полпути я останавливаюсь послушать пение обыкновенной овсянки, и Дженни говорит, что не различает голоса птиц. Большинство взрослых никогда не признаются, если они чего-то не знают. Поэтому, пройдя еще немного до поворота к мосткам, мы останавливаемся под старым дубом, чтобы Дженни послушала, как поет черный дрозд. Я знаю, что он на дубе и всегда поет в это время суток. Но стоит нам подойти, как дрозд замолкает, и надо притаиться и ждать, пока он начнет заново. Прислонясь к полумертвому стволу, я слушаю, как заливаются на других деревьях другие птицы и как совсем рядом за поворотом плещется река, омывая мостки. Но у нашего дрозда перекур. От необходимости стоять неподвижно Дженни начинает нервничать и изо всех сил сжимает пальцами ноздри, чтобы не фыркнуть. Мне так хочется, чтобы она услышала черного дрозда, что я кладу свою ладонь поверх ее ладони, и тогда Дженни убирает от лица руку и улыбается. Сразу же вслед за этим черный дрозд затягивает длинную замысловатую трель. Он просто ждал, когда мы приготовимся. Мы выходим на мостки, и я показываю ей свою лодку, привязанную к свае. Это гребная лодка, зеленая снаружи и красная внутри, как плод. В это лето я прихожу к ней каждый день — погрести, подкрасить, протереть пыль или просто посмотреть. Однажды я отплыл на десять километров против течения, а потом бросил весла, и к концу дня река сама принесла меня обратно. Мы сидим на краю мостков, глядя на мою лодку, на реку и на деревья на другой стороне. Потом Дженни смотрит по ходу течения и говорит:
— Лондон в ту сторону.
Лондон — это страшная тайна, которую надо от реки сохранить. Она пока не знает о нем, протекая мимо нашего дома. Поэтому я только киваю и ничего не говорю. Дженни спрашивает, можно ли ей посидеть в лодке. Меня пугает, как бы она не оказалась слишком тяжелой. Но сказать об этом, конечно, нельзя. Я наклоняюсь с мостков и тяну за канат, чтобы Дженни смогла залезть. Она залезает, и лодка скрипит и раскачивается. Но не проседает ниже, чем обычно, и, убедившись в этом, я тоже запрыгиваю в нее, и мы смотрим на реку с иной высоты, и видим, какая она могучая и древняя. Мы сидим и долго болтаем. Сначала я рассказываю, как два года назад мои родители погибли в автокатастрофе и как мой брат придумал превратить наш дом в нечто вроде коммуны. Сперва он собирался поселить там больше двадцати человек. Но теперь ему, по-моему, хватает и восьми.
Потом Дженни рассказывает, как была учительницей в большой школе в Манчестере, где дети вечно над ней смеялись, потому что она толстая. Но говорит об этом легко. Вспоминает смешные случаи. После истории про то, как дети заперли ее в книжном шкафу, мы так хохочем, что лодка качается из стороны в сторону и по реке бежит рябь. На этот раз Дженни смеется легко и ритмично, а не натужно и с фырканьем, как вчера. По дороге назад она распознает голоса двух черных дроздов, а пересекая лужайку, слышит третьего. Я только киваю. Вообще-то это певчий дрозд, а не черный, но я слишком голоден, чтобы объяснять разницу.
Три дня спустя я слышу песенку Дженни. Я во дворе собираю велосипед из разных деталей, а ее голос доносится из открытого окна кухни. Она готовит обед и присматривает за Элис, пока Кейт ходит по знакомым. Слов Дженни не знает, мелодия полувеселая-полугрустная, и она напевает для Элис, как старая хриплая негритянка. Новый диктор с утра ра-ри-ра, ра-ра-ра, р-ра, новый диктор с утра ра-ри-ра, ра-ра-ра, р-ра, новый диктор с утра, расскажи про дожди и ветра. После обеда я катаю ее на лодке по реке, и она распевает другую песенку с той же мелодией, но без слов. Ра-ри-ра, ра-ра-а-а, йе-еееее. Она разводит руки в стороны и закатывает увеличенные очками глаза, точно поет мне серенаду. Еще через неделю песенки Дженни разносятся по всему дому, иногда с обрывками куплетов, но чаще без слов. Львиную долю времени она проводит на кухне, где в основном и поет. Каким-то чудом там теперь больше места. Она отскребает краску с окна, которое смотрит на север, чтобы было светлее. Никому непонятно, зачем его вообще замазали. Она выносит на улицу старый стол, и оказывается, что он уже давно всем мешал. Закрашивает белой краской одну стену, отчею кухня выглядит просторнее, а потом расставляет по местам кастрюли и тарелки — их больше не надо повсюду искать, и даже я до всего могу дотянуться. В такой кухне приятно просто посидеть, когда больше нечем заняться. Дженни сама печет хлеб и торты — раньше мы ходили за этим в магазин. На третий день после ее появления я сплю в чистой постели. Она берет простыни, которые обычно не меняются все лето, и уносит стирать вместе почти со всей моей одеждой. Однажды она тратит полдня на приготовление карри, и вечером я говорю ей, что ничего вкуснее за последние два года не ел. Когда остальные со мной соглашаются, Дженни нервничает и смеется с фырканьем. Я вижу, что фырканье им неприятно, все отворачиваются, будто оно настолько противно, что даже стыдно смотреть. Но я к ее смеху привык и замечаю его только потому, что все отвернулись. После обеда мы почти всегда ходим на реку, я учу ее грести и слушаю про то, как она была учительницей и как работала в супермаркете, где каждый день видела стариков, воровавших ветчину и сливочное масло. Я учу ее узнавать птиц по голосам, но она узнает только одну, самую первую — черного дрозда. У себя в комнате она показывает мне фотографии своих родителей и брата и говорит:
— Я одна в семье такая толстуха.
Я тоже показываю ей фотографии родителей. Одна сделана за месяц до смерти: они спускаются по лестнице, держась за руки, и смеются над чем — то, что не попало в кадр. Смеются они над братом, который специально корчит рожи, чтобы их рассмешить, а фотографирую я. Фотоаппарат мне подарили на мое десятилетие, и это один из первых снимков. Дженни долго смотрит на фото и говорит, что по маме видно, какая она была хорошая, и я вдруг вижу маму не как маму, а просто как женщину на фотографии, незнакомую женщину, и впервые издалека, не она смотрит на меня изнутри, а я на нее снаружи, или не я, а Дженни, или кто-то еще. Дженни берет у меня снимок и прячет вместе с другими в коробку из-под обуви. Пока мы спускаемся, она начинает дли иную историю про то, как один ее приятель поставил пьесу с необычным и спокойным финалом. Чтобы зрители его не проспали, приятель попросил Дженни захлопать в конце, но Дженни чего-то там перепутала и захлопала на пятнадцать минут раньше, во время паузы; все подхватили, и финал был испорчен аплодисментами особенно громкими оттого, что никто ничего не понял. Очевидно, рассказ про пьесу должен отвлечь меня от мыслей о маме, и он действительно отвлекает.