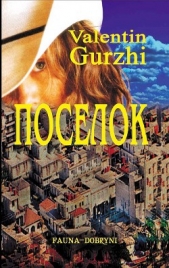Надсада

Надсада читать книгу онлайн
От колонии единоверцев, спасающихся в присаянской глухомани от преследования властей и официальной церкви, к началу двадцатого века остается одна-единственная семья старовера Белова, проживавшая на выселках. Однажды там появляются бандиты, которым каким-то образом стало известно, что Белов знает тайну некоего золотого ручья. Из всей семьи Белова спасается только его младший сын, спрятавшись в зеве русской печи. Тайна золотого ручья передается в семье Беловых из поколения в поколение, но ничего, кроме несчастья, им не приносит и в конце концов приводит к открытому столкновению внука, ставшего лесником, и новых хозяев края…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Уже подъезжая к дому брата, Данила обронил:
– Завтра, в крайности послезавтра, думаю на участок съездить. Запрягу Гнедого и – вперед, по холодку. Проверю капканы, петли. Може, че попалось, иль попалось, да хищники погрызли. С неделю не был. Думаю за ручей Безымянный сходить…
– За какой ручей? – не понял Вовка.
– Есть тамако один, прозывается Безымянным.
Вовка такого ручья не знал, никогда не вторгаясь в пределы владений дядьки. Своего участка хватало – за неделю не обойти.
– Ну а ежели не бывал, то, может, вместе сходим? – продолжил Данила. – За Безымянным славный кедрач. Чистый. Я завсегда на него оринтируюсь: ежели добрая завязь, то в будущую зиму всякого зверья не оберешься. Батюшка-кедр кормит всех, приманивая к себе в урожайные года всякого таежного жителя.
– А в это время чего тебе там?
– Орехи там у меня добытые, вывезти нада, а таскать кули в горку мне уже тяжело, вот и подможешь.
– Да в школу мне… – неуверенно начал Вовка. Он ходил в десятый класс и, надо сказать, по-своему старался, думая поступать в сельхозинститут на охотоведческое.
– Подождет школа-то, не впервой… Подтягивайся на выселки. В юные годы ночь проходит быстро: только прилег, только положил голову на подушку, и вот уже мысли в голове спутались, по всему телу разлилась сладкая дремь. И – одна за другой картины, в кино не надо ходить: то с крыши сарая летишь, но не достигаешь земли, то от кого уносишь ноги, но никто тебя не может догнать, то в пучину воды на самое дно бултыхнешься, а потом вдруг окажется, что стоишь на лугу среди цветов. И так бы всю жизнь.
– Ты че, стервец, в школу-то не идешь? – наклонилась над разоспавшимся сыном Татьяна. – Говяши хочешь сшибать по дорогам аль по тайге всю жись шастать, как дядька? Это он тебя сбил, черт сиволапый. Ну че хорошего в твоих шатаниях? Об учебе нада думать. Спициальность приобретать.
– Я нынче и так поеду поступать, – отговаривался в полусне.
– Ку-ды пос-ту-пать? – наседала Татьяна. – Восемь классов чуть кончил, да еще полтора коридора, в голове – дым. По-ос-ту-у-пать… Ишь ты, поступальщик. За учебниками бы сидел да школу бы хоть закончил, а там бы видно было…
– Буду готовиться, никуда не денусь, – отговаривался, окончательно просыпаясь.
– Вот наказание божье, – доканчивала уже в кути. – Отец где-то по тайгам шатается, а може, нашел уж себе каку-нибудь молодуху на старости лет. Старший сынок – неуч, тока бутылка на уме. Энтот вот тоже. Ни с кого толку нету. Хлещись тут одна. Ой, люшеньки…
Татьяна старела, с годами ожесточаясь все больше. Дочь Люба еще в детстве вывернулась из рук – все к отцу да к отцу. Этот – к лешему с выселок готов бежать сломя голову. Санька, которого жалела больше других и которому во всем потакала, – спивается. С младшего, Витеньки, еще нечего взять.
«Ой, люшеньки…» – глядя вслед уходящему сыну, горевала Татьяна.
Протекли сквозь пальцы детки-то, как протекают ее уже седые волосы, когда принимается прибирать поутру, опустив худые жилистые ноги в стоящие подле кровати валенки. Отгородились заплотом.
«И куды опять наладились с энтим Данилкой? – размышляла. – Може, и ниче, вроде учится, старается…»
На том и успокаивалась.
До выселок было километра три, прошел их Вовка быстро, и скоро показались постройки усадьбы его прадеда Ануфрия, где проживал дядька Данила.
Усадьба представляла из себя замкнутое заплотом пространство, где дом, баня, стайка, сарай, навес поставлены были так, чтобы проживающим здесь хозяевам было предельно удобно передвигаться, задавать корм скотине, справлять какие-то другие домашние заботы. Было здесь свое место для лошади, коровы, овец, курей, для телег разного назначения, для саней, для упряжи и прочего домашнего скарба, какой должен быть на всяком подворье, где живут стайкой, огородом, лесом, рекой. Где в своем месте натянуты шнур для развешивания белья и проволока для передвижения собаки. Сгоревшая некогда баня в стародавние времена построена была на огороде, Данила поставил свою, в нескольких метрах от дома. Стайкой, как мы уже говорили, он не пользовался, а для собак приспособил место под навесом, которые и дом сторожили, и хозяину были заместо друзей и собеседников. Причем каждую он отличал по характеру, достоинству, полезности. По-своему и воспитывал. К примеру, можно было наблюдать такую картину. Выйдет на крылечко с ружьишком в руках и призовет к себе напакостившего кобеля Бурана. Тот приближается против всякого своего желания, поскуливая, ползком.
Данила терпеливо ждет. Когда пес оказывается в метре от него, сует ему в пасть дуло ружьишка и говорит, будто человеку, на полном серьезе:
– Ну че, пакостник?.. Догулялся? Допрыгался? Счас бабахну, и только мозги твои дурацкие полетят в разны стороны…
Сам же все дальше и дальше сует ствол в пасть собачью. Тот слегка отползает, глядит умоляющими глазами в глаза хозяина, будто просит прощения, мол, то было в последний раз и боле не будет никогда. Бес, мол, попутал…
– Бес, говоришь, попутал? – будто угадывает мысли собаки Данила. – А я вот те счас все твои внутренности попутаю. Ты, поганец, зачем стягно тяпнул из сеней? И слопал-то вить один, никого не подпустил к себе. А ты его добыл, стягно-то? Ты сколь в прошлом годе облаял собольков-то? Дурочку гнал, када надо было работать?..
У пса шла пена из пасти, из глаз катились слезы, сам он мелко дрожал, и пора было завершать «воспитание».
Данила отставлял ружьецо, приказывал:
– Иди уж, но смотри, поганец этакий…
Буран отползал от хозяина на некоторое расстояние задом, затем поворачивался и пускался наутек.
Данила усмехался, доставал кисет, скручивал папиросу.
– Все понимат, – кивал в сторону уносящего ноги пса.
Данила, казалось, нисколько не старел. Правда, крепко сбитая фигура его несколько размягчилась, плечи закруглились, проявился живот. Иной раз прикашливал, сплевывая громко, будто в сердцах. Будто злился на кого.
Брился он нечасто, позволяя отрастать щетине, глаза смотрели отстраненно, не выражая порой ничего, кроме какой-то потаенной горечи, которую прятал под разросшимися топорщущимися бровями. Если прибавить к тому еще и одежду, а носил он неизменно потертую меховую душегрейку, линялую рубашку в большую клетку да заправленные в валенки темные суконные штаны, то всякий, кто глянул бы на него в окружении почерневших от времени стен построек, невольно подумал бы про себя: «Лешак…»
Фигура, повадки, привычки его как нельзя вписывались во внутреннее устройство жилища. Главное, что было в доме, конечно, печь – большая, глинобитная, с полатями и сводчатыми проходами внизу – для вентиляции воздуха и сушки обуток. На стене, ближе к печи – развешанные пучки разных трав, здесь же, ближе к кути – связки лука. Здесь же безмен, ножницы для стрижки овец, сечка и прочие нужные в хозяйстве вещи. Перегородка в доме отсутствует за ненадобностью – отгораживаться-то, видно, не от кого. Старинная деревянная кровать стоит за печью, у дальней стены, и со входа в жилище невидимая. От печи до стены протянута бечевка, и можно задернуть ситечную штору, чего Данила никогда не делает. Ближе к входной двери у окошка поставлен стол, который никогда не знал клеенки. По праздничным дням стол застилается скатертью, в будни – скоблится широким косарем, что проделывает сам хозяин. Чуть поодаль – обтянутый дерматином диван с круглыми, в виде подушек, ограничениями по бокам. В кути все, чему и положено быть: стол с отделами для всякой всячины внизу, на стене три полки в виде шкафа для посуды. И стол, и шкаф закрыты занавесками. Рядом с небольшим окошком стоит старинный же буфет, в нем хранится что получше: графинчик, рюмки, блюдца, какие-то замысловатой формы бутылки, что-то еще. Внизу в мешочках сахар, макароны, вермишель, крупы – все это Данила в немалом количестве покупает, когда выезжает в райцентр. Еще в доме самоделошная тумбочка; впрочем, здесь все самоделошное, кроме разве что дивана. В ней хозяин хранит приспособления для починки обуви, для подшивки валенок – нитки, иголки, шила, дратву, вар. В верхнем отделе – оружейные припасы: патронные гильзы и магазинные заряженные, картечь, дробь, жеканы, капсули, порох. На тумбочке привезенная с войны гармонь. Есть в жилище и заказанная после войны ануфриевскому столяру Кольке Кудрявцеву этажерка, на которой с десяток книг – разных, от школьной «Родной речи» до произведений некоего писателя Боборыкина. Тем же мастером изготовлен платяной шкап – надо же было куда-то определить выходной пиджак с орденами и медалями, выходные же полушубок, драповое демисезонное пальто на манер городского для выезда и прочее тряпье, коему хозяин мало придавал значения.