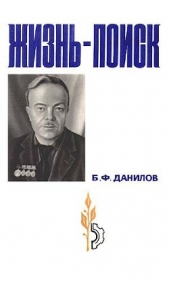Конец семейного романа

Конец семейного романа читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ты этого знать не можешь! Евреи в Португалии отступились от своей веры пять столетий тому назад, а прошлой весной построили синагогу Господу своему и вернулись к нему отступившиеся пять столетий назад евреи!» — кричал дядя Фридеш. Дедушка тоже кричал: «А что будет через пять столетий, что будет пять столетий спустя, это ты знаешь? Пять сотен лет! Время не существует! Это заблуждение, времени нет! Есть я, только я, я! Только я существую, живущий в данную минуту! Я!» Дядя Фридеш смотрел на дедушку, он отпустил его руку, отер пот со лба и просипел: «Но Иова-то, Иова и тот долгий спор ты знаешь!» Дедушка положил на белую скатерть руку, и дядя Фридеш вложил в нее свою. «Иова? Понимаю. Нож ты, вот кто!» И дедушка наклонился над столом и поцеловал руку дяди Фридеша. Потом они просто сидели и плакали. Дедушка постанывал, дядя Фридеш всхлипывал, но ему хотелось смеяться. «И все же, дорогой мой, как ни противься, ты — избранный. Ты избрал себя сам. Сам, собственным своим разумом. Сам. Я же приспособился к тому, что далось мне через другие умы. И оделся в одежды, которые ты с себя сбросил. Дорогой мой! Я сижу, застегнутый с головы до пят, и ты, нагой, сидишь вместе со мною. Так сидим мы вдвоем на вершине мира. Два старых дурня! И, в конечном итоге, оба — всего лишь идея. Всего-навсего идея, сиречь неведение. И, в конечном итоге, в неведении своем мы кровные братья». Дядя Фридеш был такой же высокий, как дедушка, но толстый. Когда дедушка умер, он не мог прийти, потому что и его уже не было в живых, но бабушка сказала, что они не хотели говорить мне про это. Не знаю, что сталось с его часами. Наверно, он умер тогда, когда мы ели рыбу и зазвонил телефон. В пятницу. Для толстых покойников, говорила бабушка, приходится заказывать специальный гроб. На большом его животе была еще маленькая припухлость. Часы, в кармане его жилета. Эти часы били каждые полчаса. И еще проигрывали коротенькую мелодию. Как будто сам живот играет. Когда он приходил и усаживался в кресло, сразу притягивал меня к себе, ставил между ног, и я должен был приложить голову к его животу; потом он отстегивал цепочку от жилетной пуговицы и давал часы мне. Пока они разговаривали, я лежал на кровати и ждал, когда часы заиграют. Сперва раздавался бой, я тотчас закрывал глаза, а они уже играли мелодию; но радовался я недолго, она тут же и заканчивалась, и опять приходилось ждать. Кофе мы уже выпили, и они держали друг друга за руки. Дедушка рассказывал: «Не знаю, говорил ли я тебе, что возвращался домой через Краков. Перед одним домом стояла большая толпа. Остановился и я — поглядеть, на что они смотрят. Бомба разрезала дом пополам, и в уцелевших половинах комнат, почти не потревоженные, висели на стенах картины, на диванах лежали подушки, слегка запыленные, на третьем этаже, неизвестно почему, на самой середине стола, на обгоревшей скатерти оказался ночной горшок; на четвертом в комнате, обитой шелком, стояло у стены фортепьяно. По расколотой надвое лестнице поднимался мужчина, на него и смотрела толпа, к которой присоединился теперь и я. Это был пожилой человек; на каждом этаже он останавливался, отдыхал, потом шел дальше. На четвертом, том самом, вставил ключ в замок, отворил дверь и закрыл ее за собой. В прихожей повесил на вешалку пальто. Вошел в комнату. Окинул ее взглядом, улыбнулся, провел пальцем по стулу, увидел, конечно, что на нем пыль, потом сел за фортепиано и поднял крышку. Он долго задумчиво смотрел на клавиши. Мы молча стояли внизу. Думаю, поляки знали, кто он. Потом он начал играть, по-моему, Шопена. Но играл для себя, для практики. Разрабатывал руки. Пропустив какой-нибудь пассаж, начинал снова, и от этого одна и та же мелодия звучала всякий раз по-иному. И вся вещь становилась еще прекраснее. Собралась большая толпа, очень большая. Многие плакали. Этот странный концерт продолжался больше часа. Наконец мужчина встал, потянулся, распрямляя спину, и пошел к другой двери. Дверь открывалась в провал. И он увлек за собой дверь вместе с дверной рамой, с нею вместе рухнула и вся уцелевшая стена». Часы пробили, сыграли мелодию, дядя Фридеш встал и спросил: «Ведь ты все это придумал, верно? Придумал, да? Говори!» Дедушка промолчал. Дядя Фридеш засмеялся. «Ты все придумал, я знаю! Жизнь не такова, знаю! Конечно же, ты это придумал, знаю, знаю!» Дядя Фридеш хохотал и снова плюхнулся в кресло, и у кресла отломилась ножка. Он сидел на полу и смеялся. Когда он ушел, мы оттащили кресло под лестницу. Потом надо будет починить его. Ночью постучали в окно. Шелковые туфельки, которые я утащил тайком из того шкафа, стояли возле моей кровати. Нужно их спрятать скорее куда-нибудь. «Открой, это я!» В окне голова в военной фуражке: папа. Я не стану включать свет, и тогда мы побудем только вдвоем, потому что бабушка не узнает! Шелковые туфельки я не нашел, зато опрокинулся стул. Я вытянул руки перед собой. Он нетерпеливо топтался перед дверью. Ключ я отыскал не сразу, потому что он был в замке. Его полагалось оставлять в замке, тогда воры не сумеют вставить в замок свои отмычки. Теплое, заросшее щетиной папино лицо. Одежда с тем самым запахом. Если бабушка не проснется, я найду бензин и выстираю его одежду. «Папа, я сам постираю! Найду бензин и постираю!» В ванной мы включили свет, но мне пришлось зажмуриться, так что я его не видел. Рыба спала на дне ванны, но от света проснулась. «Бабушка достала рыбу!» — «Стирать ничего не надо, утром я уйду рано!» Он отдал мне всю свою одежду и стоял там голый, а я очень любил видеть его голым. Дедушка говорил, что закон гласит: никто не должен видеть неприкрытыми чресла отца своего. Ева сказала, что чресла это хер. «Папа, тогда мне можно будет поспать с тобой?» — «Погоди, я ведь привез тебе кое-что, чуть не забыл. Подай-ка мне брюки. И напусти воды в раковину. Переложим пока рыбу туда». Он стал искать в карманах то, что привез мне, а я тем временем напустил воду в умывальник, но не оглядывался, просто ждал, что такое он привез мне. Оказалось, что-то вроде патрона, который дал мне однажды Чидер, но пустое внутри. «Свисток. Ну-ка, свистни!» В раковине билась рыба, она бы поплавала, но ей было мало места. Папа стал под душ, закрыл глаза, а я сидел на стуле и время от времени дул в свисток, чтобы он видел: я рад подарку. Но все во мне ликовало оттого, что я сижу здесь, а он стоит в ванне и намыливается, и мы будем вместе спать, потому что он останется до утра. Вдруг приоткрылась дверь, и заспанная бабушка закричала: «Фери! Фери! А ты что свистишь тут посреди ночи?» Но она не вошла, сразу бросилась назад. Свисток откатился. Ночью на бабушкиной голове не было ни платка, ни шляпы, и я как кричал: «Горшок принесла! Горшок принесла!», когда она приносила горшок, так же захотел крикнуть сейчас: «Лысая идет! Лысая идет!» — но этого я все-таки не кричал никогда. Бабушка тотчас вернулась, и на голове у нее уже был платок. «Давай потру тебе спину! Стань на колени, сынок, я потру тебе спину!» Он опустился на колени в ванне, и бабушка стала намыливать ему спину. Растирая пену, она приговаривала в такт: «Сейчас одежду выстираю, да? Я быстренько, в бензине! Ты голоден? Что тебе приготовить? Яйца, хорошо?» Дедушка начал кричать еще издали; он широко распахнул дверь, но на пороге остановился. «Я очень ждал тебя! Беда! Кругом беда! Die letzte Woche wurde Frigyes Sohn verhaftet!» [15]Папа вынырнул из-под рук бабушки и встал. «А голова, сыночек? Помыть тебе голову, сынок?» — «И что мне теперь прикажете делать, отец?» — «Ты меня спрашиваешь?! Ведь он твой друг!» Папа стал под душ и зажмурился. Журчали струйки, его тело блестело, под ногами вода с бульканьем стекала в водосток. «Юношеские дурачества! Если арестовали, значит, была причина». Дедушка кричал: «Er war doch dein Freund!» [16]
Папа открыл глаза и заговорил шепотом, и дедушка наклонился вперед, вслушиваясь, силясь прочитать ответ по его губам. «И дружба теряет значение, когда утверждается некий прочный порядок. К сожалению. Я становлюсь все жестче, отец». — «Но сейчас не о тебе речь! Не может быть, чтобы на тебя не накладывали никаких обязательств ни мораль, ни время!» — «Папа! Не кричи! Или не видишь, он же только что домой приехал! Сыночек мой! Яичницу?» — «Прежде всегда следует разобраться, отец, на чьей вы стороне, а уж потом можем поспорить и о морали. Полотенце!» Бабушка не знала, где ей ополоснуть руки от мыла, она открыла шкаф и, ухватив двумя пальцами, достала чистое полотенце. «Партии! Я тоже всегда только одну партию признаю! Смейся, смейся, знаешь ведь, что этим оскорбляешь меня! С тех пор как Господь создал мир, для человека все-таки существуют две партии. Каина и Авеля! Но ты, конечно, прав, я действительно могу стоять только на одной стороне!» — «Не будем спорить, отец, я устал». — «Преследуемый и преследователь!» — «Сыночек, вот полотенце!» — «Папа! Я никак не найду мой свисток!» — «И если ты спрашиваешь, где стою я, ответить могу только одно: здесь. В ванной, вот я где. Я тот, за кем охотятся, а не охотник!» — «Сынок, полотенце!» Папа, смеясь, вылез из ванны и взял полотенце. Свисток, наверное, закатился под ванну. «Не обижайтесь, отец, но все это так патетически красиво, что меня тошнит!» В умывальнике билась рыба. Он вытирался. Никто не завернул кран, из розетки душа шумно струилась вода, ее со всхлипом заглатывал водосток. Папа вышел первым, обернув вокруг пояса полотенце. Бабушка семенила за ним, дедушка ковылял сзади. Отсюда, из ванной, я видел комнату, куда мне так редко разрешалось заходить. Только с бабушкой, когда она убиралась там. Или после обеда, когда все спали. Самая красивая комната. Ковра нет, пол скрипит при каждом шаге; и совершенно голые белые стены. На окне нет даже занавесок, они не нужны, потому что сюда никогда не заглядывает солнце; за окном три огромных сосны, их темные тени колышутся на стенах. Здесь никто не крадется за моей спиной, здесь мне покойно. На большой кровати мягкое зеленое покрывало. Лечь бы прямо сейчас и представить, что он лежит со мной рядом. У окна большой стол на красивых гнутых ножках, подушки на кресле обиты такой же зеленой мягкой тканью. На столе ничего нет, и в нем только один ящик, но он всегда заперт, потому что там самые важные документы. Я и Нину Потапову выкрал оттуда однажды, в воскресенье утром. Зря Чидер рылся на чердаке: все секретное, конечно, здесь, но этого выдать ему я не мог. А больше в комнате нет ничего. Но когда мы включаем люстру, все озаряется матовым светом. Дедушка опять сказал что-то, и папа остановился посреди комнаты, под самой люстрой. Сорвал с себя полотенце. Какой он большой, какой волосатый, какой голый. Зеленое мягкое покрывало пахло точно так же, как и тогда, когда я клал голову отцу под мышку; посредине одеяла пятно или потертость, не знаю. Бабушка подает ему чистую пижаму. Как только он уедет, бабушка ее выстирает и отгладит: когда бы он ни приехал, все его вещи должны быть чистыми. И не успевает он уехать, как мы с бабушкой сразу начинаем ждать письма или телеграммы. Но почтальон к нам не заходит, он боится собаки. Хотя моя собака не кусается. Только скалит зубы, это она так улыбается, но все боятся, думают, что она укусить хочет. Однажды, в воскресное утро… Бабушка не могла взять меня с собой на мессу, потому что он приехал в субботу. В то воскресное утро в прихожую заглянуло солнце. Он рассматривал себя, стоя перед зеркалом. «Уже седею. Достань-ка вон оттуда молоток и гвозди; сколотим почтовый ящик. Правда, не знаю еще, из чего». Мы рылись под лестницей среди всякого старья и чемоданов, искали подходящую доску. Нашли старый ящик от комода и сколотили из него почтовый ящик. Он был совсем как маленький домик. С дверцей, окошком, наклонной крышей, чтобы стекали капли во время дождя. С тех пор почтальон больше не кричал нам. Просто бросал письма в ящик. Когда собака сдохла, у нее были оскалены зубы. Я хотел подтянуть губы на место, как следовало бы, но ничего не получилось. А почтальон и после того не заходил к нам. Напрасно я простаивал утром у окна, напрасно ждал, когда же придет письмо или телеграмма. Они приходили всегда неожиданно. Комната со шкафами темная и жаркая. Я бросился в светлую комнату, мне захотелось вдруг увидеть его глаза. «А как мне с тобой говорить, о Господи? Молится, что ли: помоги, Господи, научи, вложи нужное слово в уста мои!» Когда он разрешал мне лечь с ним рядышком и не гасил свет, я всегда всматривался в его глаза, удивлялся, отчего они у него такие голубые; отчего так бывает? «Ох, надень же пижаму, ведь простынешь, сыночек!» В то воскресное утро я юркнул к нему в постель. Он лежал совсем голый. Мне тоже хотелось снять пижаму, но я не решился, не знаю сам почему. Ведь так я лучше ощущал бы его. Я уткнулся головой ему в плечо, вдыхал запах его одеяла и всем телом прижался к нему. Но он быстро отодвинул меня и приказал шепотом: «А ну-ка, марш в свою постель, быстро! Иди к себе! Ступай же!» Он взял у бабушки только пижамные штаны и бросил на кресло влажное полотенце, но оно упало на пол. «Ты вроде как онемел!» — «Опять начнем все сначала, отец?» — «Мне страшно, мне очень страшно! Я знаю твою судьбу!» Папа развернул красиво выглаженные пижамные брюки и спереди приложил их к себе, словно примеряя; долго думал о чем-то, потом засмеялся и помахал перед дедушкой пустой штаниной. «Ну, право же, отец! Не сердитесь, но не могу удержаться. Мне смешно. Что вы можете знать? Бросьте, где это там вы стоите, отец? Думаю, вас уже вообще нигде нет!» — «Я еще жив! Может, ты не заметил, что я еще жив! А покуда человек жив, высказанные слова, высказанная мысль, даже если он ничего не может сделать, распространяются, влияют, и ты не можешь этому помешать! Неужели ты не видишь? Мойся не мойся, что толку! Ты замаран кровью! Что ты скажешь перед престолом Божьим? Сын мой!» — «Не говорите мне о Боге!» — «Почему Господь выбрал меня, чтобы породить такого дьявола?» — «Ну, хватит! Надоело!» — «Надоело?» — «Ваши библейские проклятия! Надоели!» — «Надоели? Теперь моя очередь смеяться? Ха-ха! Ты просто боишься! Тебя приводит в ужас пропасть, которую я отверзаю пред тобой словами моими! Ты боишься, дрожишь! Боишься: ну как прошлое твое тебя не оправдает! Но ведь прошлое, и твое прошлое тоже, — это я! И тогда останешься ты все-таки замаранный кровью и рухнешь в пропасть, которую я перед тобой открываю, чтобы ты заглянул в нее!» — «Довольно! Ясно вам? Довольно!» — «Сыночек! Папа! Сыночек! Яичницу?» — «Если бы я не принимал во внимание, что Вы, с кем у меня никогда не было ничего общего, из которого, это правда! я вытягивал деньги, но, к счастью, никогда для себя, и еще потому, что знал: делая доброе дело, а деньги — единственное в вашей жизни, что можно было использовать, — эти ваши деньги служили тому, чтобы я сейчас удавил вас ими, понимаете вы?! Мы вам ничего не должны, вы за них получили столько, что можете упиваться собой! Ведь бескорыстие вам неизвестно, даже понаслышке, каждое ваше движение — лицемерная ложь, вы вечно оберегали свою невинность, потому что всегда были трусом, трусом! И я всегда ненавидел ваши ханжеские цветистые речи! Облекавшие ваши грязные страсти в нечто духовное! Да вы и не заметили даже, что не жили, верно? Вы не жили! Понимаете? Вы существовали, но не жили! Если бы я не считался с тем, что вы, к сожалению, мой отец, я сейчас заткнул бы вам глотку, словно какой-нибудь убийца, и позаботился бы о том, чтобы ваши мысли — дерьмовые мысли, между прочим! — не получили распространения, не коснулись бы даже моих собственных ушей!» — «Ты мерзок! Или это я так грешен, так грешен, Боже мой! Ты арестуешь меня, сын мой? Я здесь!» — «Прочь руки! Для меня вы и в мученики не годитесь! Вы мне отвратительны! Понимаете? Я разорву вас как тряпку, вот так! Убирайтесь из моей комнаты, поняли?» Я схватился за дверь. Дедушка раскинул руки. Папа разорвал свои пижамные штаны. Но тут послышался какой-то странный шлепок из ванной. Рыба извивалась на полу, под раковиной. Я схватил ее, но она выскользнула, не давалась в руки. Я все же прижал ее к себе. И положил опять в ванну, и пустил для нее воду. Бабушка с плачем убежала на кухню. Моя пижама стала склизкой. Он захлопнул дверь и заперся у себя от всех нас. Когда ванна наполнилась, рыба стала плавать. Было тихо. Дедушка здесь рассказывал мне историю девушки, от которой пахло рыбой. А когда бабушка уходила в магазин, дедушка шел со мной на чердак и там рассказывал про предков. В тот раз бабушка принесла рыбу. «Я рассказываю тебе так, как рассказывал мне мой дедушка в Сернье, на скамейке под шелковицей. Здесь мы уже стали Шимоны. Дедушка сидел на том стуле, на котором сидел я, когда папа намыливал себя и в раковине металась рыба. Но сейчас он шептал. „Не смотри на меня! Меня уже нет!“ Я смотрел на черно-белые клетки пола. На крыше оконце со стеклом в сеточку. Я все думал: как же это проволоку в стекло вдавили? И смотрел в окно. Оттуда льется свет, льется наискосок. Вот сейчас! Сейчас! Он льется сейчас! Хорошо бы увидеть тот миг, когда свет начинает литься. Или когда заканчивается. „Не смотри на меня! Только слушай! Конца никакого нет, все продолжится в тебе, а ты передашь дальше. Если сумеешь. Я же продолжу рассказ все так же, да, все так же, как рассказывал мне мой дедушка. Кажется, у меня сорвалось с языка — всегда следи за своим языком! — что два старших сына Самуила бен Иосифа остались в Кордове. Я так сказал?“ — „Так“. — „И я тогда ответил так же, и мой сернейский дедушка так же продолжал свой рассказ: значит, я сказал неправильно, потому что они так задумали, да не так вышло. А врать не хочу. В этой истории планы, замыслы действующих лиц второстепенны. Нам следует придерживаться только фактов. А факты в этой тонкой конструкции так сцеплены друг с другом, как зубцы шестеренки: один приводит в движение следующий; достаточно одной-единственной пылинки лжи — и все заскрипит и встанет! О нет! Только не история! Сцепления в зубчатке истории таинственно совершенны; пылинка не проникнет между ними, потому что конструкцию эту защищает стеклянный купол вроде тех, под которыми держат сыры. Неточными могут быть только наши рассказы, если мы не соблюдаем должной осторожности. Осторожность в данном случае означает приверженность. Zu den Tatsachen [17].