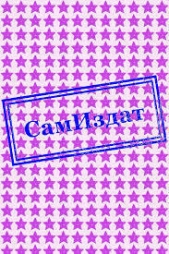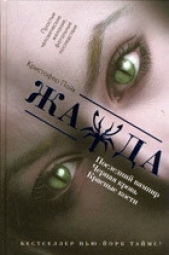Не встретиться, не разминуться

Не встретиться, не разминуться читать книгу онлайн
Останки выгребли из могил городского кладбища и обгаженных вороньем тихих сельских погостов, из-под придорожных завалившихся обелисков, и перезахоронили в общей могиле кости сотен солдат. Все они теперь числились героями, братьями, конечным общим пристанищем их стала братская могила.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Сосали вино в подъездах из горла, тискали одноклассниц?
— А что вы предлагали нам взамен? Петь хором комсомольские песни? — взорвался Алеша. — Брехня в школе, дома умолчание… И кто с нами хотел говорить обо всем?
— А вы хотели такого разговора? Вы на мир смотрели сквозь динамики магнитофонов, а уши заткнули здоровенными наушниками.
— Так мы, дед, не доберемся до конца: мы не слушали, потому что нам не говорили, а нам не говорили, потому что мы не слушали! Где тут голова, где хвост?! — крикнул Алеша.
— Почему ты на меня кричишь? — Петр Федорович спокойно нанизал на вилку кусочек хлеба и вымакивал в тарелке остатки глазуньи.
— А на кого?.. Я знал, что этот разговор возникнет… На родителей? Какой с них спрос? Они же меня боятся теперь… В рот заглядывают — что изреку. Папа какой-то отмороженный, лебезит передо мной. Все ублажает, советы спрашивает!.. Обхохочешься!.. Он что, и на работе такой? Как мне теперь относиться к нему?
— Отца своего не тронь. Он ко всему еще и мой сын. Хороший сын, и человек порядочный. А если ты не способен понять его и маму, значит, ты дурак.
— Пойми, дед, — Алеша с боков сжал ладонями грудь, — не я один такой дундук. Нас миллионы двадцатилетних. И вдруг нам на голову посыпалось по телевидению, из газет и журналов столько да такое! В особенности для нас, вернувшихся оттуда. Только и слышишь: «культ личности», «последствия культа»… А что мы знали про это? Что мы знаем? Он для нас, как Иван Грозный для вас — история, эпизод из школьного учебника. И то, и другое чёрт-те когда было!.. Но, выясняется, имеет отношение к моей жизни. К сегодняшнему бедламу. Вот те на! Прут с мясокомбината вырезку на бифштексы, ножки на холодец, с молокозавода тащут сливки и масло! Мама моя это покупала, называлось «достать». Если бы было украдено у соседа, мама не купила бы… Принимаются грозные постановления. От них же толку никакого! Ты «Прожектор перестройки» смотришь? Отпад!.. При чем здесь «культ»? Когда он был-то? Может, действительно нужно, как при вашем «культе», министра любого за грудки и туда? Чтоб все знали: не выполнишь — загудишь на червонец или к стенке… Иначе они чихали на вашу перестройку…
Отложив вилку, Петр Федорович слушал и думал: «Боже мой, какая сумятица у них в голове! Как мы перед ними виноваты!..»
— Сталина уже нет, Алеша, — сказал он.
— Найдутся другие!
— И ты готов — с ними?
— А чего? Готов!
— Заменить одни фамилии другими, одних рабов и надсмотрщиков другими и — проблема решена? Пружина страха лопнула, Алеша. И слава богу! Но общество наше развратили болтовней, ложью, демагогией. Рабочим без устали внушали: вы — гегемоны. А гегемоны тащат через проходную канистру финской краски, сальники, поршневые кольца, сбывают мастерам-частникам. Почему бы нет? Начальник главка берет «на лапу» десятки тысяч, выделяя кому-то металл. И не сверх лимита, — положенный. «Вы в долгу перед рабочим классом!» — долдонили на собраниях. В долгу считались писатели, актеры, художники, композиторы, вся интеллигенция. В каком долгу? Чушь! Он у меня в долгу, этот «гегемон». У меня отваливаются подметки на новых штиблетах. У меня «летит» агрегат на холодильнике, не проработав и месяца.
— Потому что никто ничего не боится уже, дед.
— Да, страх стал ручной, а совесть за последние двадцать лет растворили в словах: «Все идет хорошо, страна на подъеме, и пусть будет тихо…» — Петр Федорович нервно чиркал спичкой по коробку, прижав его протезом, но никак не мог зажечь, дрожали пальцы. Наконец прикурил. — После Сталина, Алеша, кончилась эра истового раболепия, преданных послушников. Последующие, как от кровосмесительства, выродились в равнодушных и тихих, безразличных и наглых, «отмороженных», как ты говоришь, и рвачей. — Петр Федорович говорил и мучился от мысли, сколько звеньев не хватает между ним и внуком, какие провалы он заполнял сейчас тривиальностями, прописями. Зачем? Вон на столе куча газет и журналов. Там все… Пусть читает… Но это, как отмахнуться… Он сощелкнул пепел в пустую банку из-под сардин. Мерзко запахло паленым маслом.
— Не понимаю, почему, почему, почему?! — Алеша застучал кулаками по столу. — Откуда пошло?
— Издалека. Оттуда, где мне было тринадцать-четырнадцать лет… А дошло сюда… Недавно, ты уже в пятый или шестой класс ходил, один начальничек с бо-о-льшими погонами на плечах запретил армейским библиотекам выписывать «Юность» и «Новый мир». Но ты про это и не слышал.
— Как запретил? Почему?
— Там печаталась правда о войне. Для вас же не должно было быть ни ужаса сорок первого, ни плена, ни напрасной гибели солдат из-за бездарных генералов, ни разгромленных в окружении дивизий. Чтоб не возникал вопрос: как так, кто виноват? Лучше, чтоб война выглядела, как гладкая дорога до Берлина. Убивало, конечно, и тогда, люди гибли, но только героически. А когда вам достался Афганистан, оказалось, что случались и окружения, и плен. Но были ли вы готовы к этому? То-то… Похмелье тяжкое и цена ему высокая…
— Как же нам жить теперь?.. За что же мы там… У тебя водка есть? — вдруг спросил Алеша, вставая.
— Возьми в буфете, в бабушкином графинчике. Но с условием: ляжешь поспать потом. И ночевать останешься.
— Не останусь!
— Тогда уйдешь без водки… Посуду я сам вымою. Еще раз говорю: не ори! Не превращайся в истерика. Я видел таких в сорок пятом и позже. Размахивают костылями, налакаются и — в голос: «Жизнь кончилась!.. Я безногий!.. Завоевали называется!.. Нюрка, дай бутылку без очереди!..»
— У нас с тобой разная война была, дед. — Алеша стоял у раскрытого буфета.
В толстых граненых хрусталинках в дверцах радужно слоился свет. Налив водки в синюю рюмку, он приблизил ее к глазам, разглядывал, словно хотел увидеть нечто важное, потом сказал: — Твоя называлась «отечественная». Как мою назовешь?
Петр Федорович смотрел на внука, ждал — никогда не видел его пьющим, и думал: мы тоже тогда, едва вернувшись, растерялись перед жизнью на гражданке. Эйфорию радости, что победили, уцелели, выдуло. И оробели: как жить дальше, что делать? Что мы, бывшие школьники, умели? Убивать? Вслепую собрать «на слабо» затвор? Тихо сползать на «нейтралку» поживиться у трупов куревом? Это никому уже больше не нужно было. В разрухе, в голоде мирной жизни требовалось другое умение. Возникли новые и непонятные уставы, страдания, проблемы, слова, понятия. Опешили, затосковали по знакомой фронтовой вольнице — простой и ясной. Откуда-то подоспели и новые начальники, сгибавшие нас, стучавшие кулаком по столу: «Хватит! Нечего права качать! Война кончилась!.. Страна в разрухе, а вы тут…» Что ж, и в этом имелась правда. И постепенно распихала нас жизнь по нужным ей углам. Кого куда, кого с пользой, кому хребет сломала… Так и пошло, покатилось. Но никогда не было ни сомнений, ни вопросов, подобных Алешкиным… Хотелось сказать внуку: «И твоя растерянность пройдет, все минует. Ноша ваша легче — полстраны тогда в руинах лежало». Но Петр Федорович сдержался и подумал: «А может быть, и тяжелее».
И словно поняв, чего он поостерегся, Алеша повторил:
— Разная у нас с тобой война была… Оглянись вокруг: все сыты, жрут, хари, прости, — за неделю не обгадишь, довольны, требуют модное тряпье… Большего им не надо…
— Какое тряпье? Где ты это? видел? У кучки своих дружков? До сих пор телогрейки тюремного цвета шьем. И ведь спрос на них есть! Сыты, говоришь, жрут? Ты пройдись по магазинам, пробейся к прилавку. Минтай в деликатесы попал. Сбегай на рынок, спроси, что почем. Страна хлебом брюхо набивает — вот и сыты. Что разваливалось пятьдесят лет, теперь по кирпичику собирать придется.
— На что же надеяться, дед? — Алеша потер лоб. — Я где-то вычитал на днях, что профессор Федоров, этот, что операции на глазах делает, рассказывал: обследовали слепых. Попадались, которым можно вернуть зрение. А они отказались: «Мы привыкли уже, приспособились, нам так легче». Понятно? Народишко наглый стал. В гробу он видел эту демократию, гласность. Ему важно, чтоб не мешали набивать чулок купюрами. Украсть легче, чем заработать.