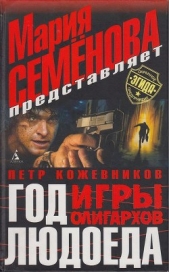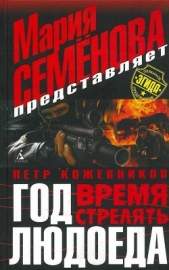Смех людоеда

Смех людоеда читать книгу онлайн
Пьер Пежю — популярный французский писатель, обладатель престижных литературных премий, автор более 15 романов и эссе, переведенных на два десятка языков. Роман «Смех людоеда», вышедший в 2005 году, завоевал премию «Fnac» по результатам голосования среди книгоиздателей и читателей.
«Смех людоеда» — это история о любви и о войне, рассуждение об искусстве и поисках смысла в каждой прожитой минуте. Книга написана незабываемо образным языком, полным ярких метафор, с невероятной глубиной характеров и истинно французским изяществом.
Шестнадцатилетний Поль Марло проводит лето в Германии, где пытается совершенствовать свой немецкий. Но вместе с тем он познает вкус первой любви и впервые сталкивается с жестокостью и двойственностью окружающего мира… Эти столкновения — и с девушкой, так непохожей на других, и с порождениями природы зла — будут подстерегать Поля на протяжении всей его долгой жизни. И выбрав путь скульптора, ежедневно вступающего в бой с камнем, он пытается найти ответы на вечные вопросы бытия.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Намного позже мы, хмурые и сильно уставшие, нос к носу сталкиваемся с веселой и, кажется, начисто обо всем позабывшей Кларой. Перед тем как исчезнуть, она бросает, обращаясь ко мне одному:
— Поль, если хочешь, приходи ко мне завтра после обеда, покажу тебе несколько фильмов, которые я сняла, они связаны с кельштайнскими событиями… И рисунки свои не забудь… Спокойной ночи, мальчики!
Назавтра я без труда нахожу дорогу к дому Лафонтена. Едва выйдя за окраину Кельштайна, сразу за мостом сворачиваю с дороги, поднимаюсь по тропинке, потом иду вдоль ограды, открываю неприметную калитку и оказываюсь в буйно цветущем саду. В отличие от прочих садов в городке, здесь растениям словно предоставлена продуманная свобода, их чуть-чуть многовато. Цветы растут так тесно, что все их венчики соприкасаются, сливаясь в разноцветные благоухающие грозди. Я мало что в этом понимаю, но меня поражает разнообразие видов. Пышные кусты мелких белых розочек, темно-желтые розы с кровавыми подтеками на лепестках, розы бесчисленных оттенков розового и высокие красные розы с шипами, похожими на кинжалы, и одуряющим запахом. Готов спорить — те самые, которые я видел в лесу. Не могу удержаться и подхожу ближе, меня притягивает этот глубокий, театральный, почти черный цвет. Лепестки сомкнуты, словно оберегают тайну. Тысячи смеженных век, сжатых, суровых, чувственных губ. Сад овдовевших, осиротевших, ничьих роз…
Что здесь происходит? Входная дверь открыта, я зову Клару, но дом остается глухим к моему голосу, до меня в ответ долетают лишь звуки музыки. Ясные, исполненные несколько однообразного веселья, строгой радости. И тогда, ориентируясь на эту мелодию, я поднимаюсь по довольно-таки крутой лестнице, покрытой домотканой дорожкой, которая заглушает мои шаги.
Клара стоит на площадке второго этажа, облокотившись на некрашеные деревянные перила, подперев кулаком подбородок, и насмешливо смотрит на меня. Потом делает мне знак идти за ней, толкает дверь — и ноты вырываются на свободу, словно пытаются убежать, мимоходом задевая наши уши, они бесконечным потоком струятся из своего гроба, но потом так и бегут на месте, не покидая горизонтальной лесенки с черными и белыми ступеньками.
Женщина сидит за пианино спиной к нам. Она играет живо и с какой-то безрадостной увлеченностью, в такт покачивая головой и плечами. Фуга бежит вперед, но предметы и растения замерли неподвижно.
— Мама, это француз, который гостит у Томаса, мы пойдем смотреть фильмы, — кричит ей Клара.
Я подхожу поближе, хочу поздороваться с ее матерью, но Клара машет мне рукой, чтобы я не мешал поглощенной игрой пианистке, и тащит меня в свою комнату. В конце концов, мне только и надо остаться с Кларой наедине. Заметив у меня под мышкой папку с рисунками, Клара меня от нее освобождает и бросает ее на кровать. Все в комнате белое: стены, занавески, ковер, маленькое кресло, держащее в объятиях гитару. Вернее, черно-белое: стены завешаны вырезанными из журналов фотографиями, словно мир с его зрелищами пропитал светлые стены, а теперь проступает на них серыми каплями и стекает тысячами снимков. Если подойти поближе, я смогу разглядеть тела, лица, скелеты, колючую проволоку, ружья, ограды, животных, солдат, танки, толпы, улыбки, детей, облака… И на одной из немногочисленных цветных фотографий — красное пятно платья с глубоким вырезом и улыбка сочной блондинки. Наклоняюсь поближе.
— Знаешь, она в прошлом году покончила с собой? — говорит Клара. — Это Мэрилин Монро! Посмотри на ее тело, ее кожу, ее волосы. По ее улыбке видно, как она несчастна. Говорят, она наглоталась таблеток…
Какой контраст между кошачьим, скупо очерченным силуэтом Клары и этой голливудской куклой из плоти, едва прикрытой алой тряпочкой. И все же между этими двумя существами, от которых я внезапно почувствовал себя бесконечно далеким, существует таинственное сходство.
В комнате, куда более просторной, чем все те, в каких я жил с детства, вижу белый прямоугольник экрана, подвешенного на металлическом треножнике, и, немного в стороне, одинокий и сверкающий проектор с его пассиками и бобинами. На столе — все необходимое для монтажа и целая гора пленки.
Клара без всякого стеснения усаживается на ковер, прислонившись к кровати, развязывает черные шнурки на моей папке с рисунками и говорит:
— Мама целыми днями играет на пианино… Она мечтает, все время витает в облаках…
— Она музыкантша?
— До войны, когда была совсем еще молодая, давала уроки музыки. Но давно уже уроков не дает, играет только дома, сама для себя… Папа говорит — пусть играет, сколько хочет. Ей лучше становится от музыки. Но и очень больно тоже! Она играет одно и тоже: сплошной Бах!
Но, поскольку Клара произносит «Вагг…», я морщу лоб, а она хохочет:
— Ну да… Bak! Bak! Вы ведь так это произносите по-французски!
— А сад? Все эти розы?
— Розы — это все папа. Когда он не ходит к больным, то ухаживает за своими розами, подрезает их, возится в саду до темноты.
— А ты, Клара?
Она улыбается, дружески кладет мне руку на колено.
— Ну, я… это другое дело, — отвечает Клара, открывая папку с рисунками.
— Ты снимаешь кино…
— Сейчас — да. Я ищу. Ты, наверное, тоже, когда рисуешь?
Меня немного задело то, с какой скоростью она перебирает рисунки, которые я вымучивал долгими часами, — словно тасует колоду карт. Мелькают деревья с ветками, похожими на когти, и корой, из которой смотрят странные глаза, изуродованные головы со склизкими тварями, насекомыми или другими головами вместо волос, разбитые памятники с растущими из камней корнями, наброски со случайных предметов, совращенных и переученных, движимых диковинными намерениями.
Вижу, что Клара задержала взгляд на лодке, которую я рисовал на берегу Черного озера в то самое время, когда она меня снимала.
— Сейчас увидишь, — внезапно произносит она.
И Клара, отложив в сторону мои рисунки, задергивает занавески и насаживает на проектор бобину с пленкой. Проектор начинает жужжать, и на светящемся в полумраке прямоугольнике появляется эта странная лодка, снятая таким крупным планом, что карандашные штрихи превращаются в веревки, а мои пальцы — в снующих взад и вперед чудищ, опутывающих ими утлый челнок. Потом на воде среди тростников закачалась настоящая лодка. Затем появились узнаваемые фрагменты спящих тел: уши, пальцы ног, ноздри, ляжки, но больше всего сомкнутых век и неподвижных губ. Залитая солнцем сияющая нагота, сверкающие капли воды на нагой плоти, словно в сказке, скованной сном. И снова настоящая лодка, она наполняется водой и начинает погружаться. Эти планы чередуются с закрытыми глазами и мечтательными улыбками. И, наконец, картина гибели. На мгновение появляется моя лодка-гроб — и дальше ничего. Маленькая бобина крутится вхолостую, коротенький пленочный хвостик трепещет в пропахшем нагретой пылью воздухе.
Фильм странный, но Клара, не дожидаясь, пока я что-нибудь скажу, снова заряжает проектор. Кельштайн, снятый с верхней точки в дождливый туманный день. Колокольни, домики, крепостная башня окутываются дымкой, тонут в темноте. Рухнувшая стена. Крупным планом — пустые глазницы бойниц. Крупным планом — раны трещин. Ржавый металл ворот, погнутые прутья ограды, страшные крючья, торчащие из зарослей. Потом быстро сменяют друг друга нарисованные на фасадах домов улыбающиеся люди с серпами или виноградными гроздьями в руках. Светлые косы, букеты цветов, все расплывается в белизне. Камера внезапно опускается, крепость с нижней точки, смутная угроза. На экране мелькают жители Кельштайна, Кларина камера переходит на замедленную съемку: они едва успевают махнуть рукой и смущенно улыбнуться, прежде чем обратиться в тени, призраков, а потом мы видим засовы, оконные решетки, железные кольца. Экран темнеет, но мне кажется, что я различаю на нем длинный коридор дороги в лесу. Пятнышко света, как в перевернутом бинокле. И вдруг камера останавливается, объектив медлит, нацелившись на большой дом с запертыми дверями и ставнями посреди заросшего сорняками сада. Вскрытый почтовый ящик. Веревки от качелей свешиваются в пустоту… И железная дорога — камера по рельсам и шпалам добирается до черного входа в туннель.