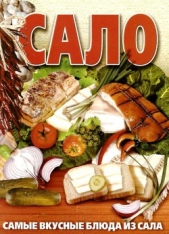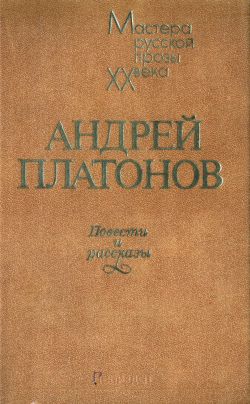Судьба

Судьба читать книгу онлайн
Действие романа «Судьба» разворачивается в начале 30-х годов и заканчивается в 1944 году. Из деревни Густищи, средней полосы Росcии, читатель попадает в районный центр Зежск, затем в строящийся близ этих мест моторный завод, потом в Москву. Герои романа – люди разных судеб на самых крутых, драматических этапах российской истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Ладно, сидите, – согласился дед Макар, – а мне еще надо сходить поглядеть. Потом вы еще щепок потаскайте, много кругом валяется, затопчут добро, ни к чему.
Солнце вышло в полнеба, к селитьбе Дерюгиных пришли и старухи, собрались на противоположной стороне улицы, расселись на старой длинной колоде в ряд и смотрели, как идет работа, попутно покрикивая на шнырявших мимо ребятишек и подробно обсуждая, кто лучше ведет крышу, Бобок или Володька Рыжий; потом одна из них, маленькая и набожная Салтычиха, поджала тонкие губы, указала на Акима Поливанова, подтесывавшего в это время паз оконного косяка.
– Старается-то Акимушка, как свое. То-то хорошо, большая родня кругом, как у татарина. Говорят, по семь баб у одного, а вся родня в помощь идет.
– Кума, кума, – тут же повернулась к ней ее подруга, высокая и сухая Чертычиха. – Без греха на свете не бывает, Захар-то мужик видный, не всякая девка устоит. Вишь, бес, как лебедь, не осуди, глаголет слово богово, не осужден будешь. Нам с тобой о божеском думать поболе надо, скоро в землицу.
– Меня-то уж не за что корить, хоть на солнышко просвети, ни пятнышка, – скромно поджала губы Салтычиха. – Вот уж прожила, прямо по чистой стежке прошла.
– Ладно, ладно, кума, не хвались, любую копни, как что-нибудь и отскребется.
– Помилуй бог, – истово перекрестилась Салтычиха.
– Что ж ты гневишь-то господа, зря, кума, – засмеялась Чертычиха, показывая беззубый, птичий рот. – А мой-то Аникей-покойник, а? Может, ты и позабыла…
Салтычиха, как-то вся переменившись, стала еще меньше и словно выставила вокруг себя мелкие колючки, но тотчас лицо ее приняло благостное выражение.
– А что ж твой Аникей? – почти пропела она, не спеша перебирая пальцами по пуговицам своей праздничной одежки.
– Да ладно, кума, что уж ты на старости лет… Мне Аникей сам признался, смертушку почуял и признался, был грех, говорит, старуха, вот народ правду и говорит: то не кума, что под кумом не была.
– Навет, навет! – Салтычиха несколько раз мелко и торопливо перекрестилась, воротя голову в сторону церковной маковки, словно призывая ее в свидетели. – Покойничку, видать, померещилось, ну бог с ним, пухом ему земля, все там будем.
Старухи дружно рассмеялись и примолкли; одна из них ласковым голосом вспомнила, что в тихом болоте всегда черти водятся, да редко добрым людям на глаза кажутся; Салтычиха хотела обидеться, не успела, увидев идущую к ним через улицу бабку Авдотью, в теплом толстом платке в широкую клетку и новой кацавейке.
– Ишь вырядилась-то Авдюха, – неодобрительно сказала Салтычиха, – как на пасху тебе. Нос-то задирает теперь, таким миром чего и хоромы не поставить, все дармовое!
– Язва ты нутряная, кума, – сказала ей Чертычиха, – нет чтобы порадоваться чужому счастью. Авдюхе ничего не надо, вот у Захара четверо, вот кому надо. Здравствуй, здравствуй, Авдюх! – повернулась она к бабке Авдотье, действительно гордой и важной от происходящего. – Ну и радость у тебя, сердце заходится. Да и то сказать, с миру по нитке, голому рубаха, – не удержалась Чертычиха, чтобы не впустить в свою медоточивую речь чуточку горчинки, но бабка Авдотья, охваченная иным настроением, ничего не заметила и вместе со своими старыми подругами стала любоваться на веселую и дружную работу, на то, как новенький сруб на глазах принимает вид жилого, богатого дома.
– Плющихина-то, Плющихина Настюха, ой здорова, ох кобыла, всего в позапрошлом году была-то как кол, ни спереду тебе, ни сзаду, – с невольной завистью заметила Салтычиха. – Мужика-то себе выбрала плюгавенького, и как-то он с нею справляется, Митек? Советовала я ему, племянничку-то, разве послушает… А теперь встречу, губы-то аж черные стали, изъездила за два года до помороков.
– Да ведь Митяй молодой еще, для мужика девятнадцать годов – это вовсе ничего. А вот в мужицкий сок войдет, ему десять таких Настюх мало будет. Да ребят зачнет рожать, – э-э, кума, бабья доля – маков цвет, три дня ей красоваться.
К старухам незаметной тенью подошла дурочка Феклуша, в растоптанных калошах на босу ногу, легко примостилась с краю колоды; глядела на работу и что-то бормотала. Старухи при ее появлении перестали переговариваться и все вместе с жалостью и некоторым почтением перенесли свое внимание на нее; Феклуша до сих пор жила где попало, где день, где ночь, в теплое время она и вообще невесть куда пропадала из села.
Феклуша порылась у себя в узелке, который всегда таскала с собой, достала какую-то тряпицу и, вскочив с колоды, сунула тряпицу в руки бабки Авдотьи.
– На радость… на радость… – сказала она с детским счастьем в глазах. – Святая ты, бабушка, на радость… посади, посади – золотая грушня вырастет…
Внезапно наклонившись, Феклуша поцеловала бабку Авдотью в плечо и побежала прочь, только замелькали ее сухие, легкие ноги в разношенных калошах; бабка Авдотья запоздало перекрестилась. Остальные заинтересованно, не зная, что и сказать, рассматривали оставленную Феклушей тряпицу.
– Покажи, что там, – не выдержала вконец Салтычиха, и, когда бабка Авдотья размотала тряпки, все увидели засохшую корку хлеба и горсть арбузных семечек и переглянулись.
– Господи помилуй, – сказала бабка Авдотья, задумываясь и не слушая различных толкований кругом. – Что с нее спрашивать – блаженная и есть.
– Хлеб – завсегда к хорошему, – Салтычиха замотала тряпицу. – Ты его в новой хате на божницу за икону божьей матери положи, добрый знак от Феклуши.
– Побегу я, – заторопилась бабка Авдотья, невольно подчеркивая, что сегодня она неровня своим подругам, что они только праздные соглядатаи, а она – хозяйка и непременно соучастник всему, что творится. – Надо мужикам сказать, завалину бы не обнизили, подпол промерзать станет
Ей ничего не ответили, и она пошла, необычно прямо держа длинную спину.
– И день-то, как стеклышко, на диво, – вздохнула Салтычиха, словно этот ясный день и солнце, уже повернувшее с полнеба, были чем-то ей неприятны.
13
В то время, когда людей на толоке пробирал уже седьмой пот, в просторной избе Козева из распахнутых дверей валил сытый дух, раскрасневшиеся, распаренные бабы готовили большой обед для толоки, да и в двух избах по соседству целый день дымили печи, пекли пироги с горохом и яблоками, в двухведерных чугунах, еле пролезавших в устья печей, томились жирные щи и разные каши. Козев с помощью ребятни сразу после полудня стал сносить в свою избу столы и лавки от соседей, собирать посуду, людей ожидалось человек пятьдесят, и жена Козева Пелагея Евстафьевна все суетилась и ахала, что ни места, ни еды на всех не хватит, и Козев, мужик вообще молчаливый и неразговорчивый, кивал ей, бормотал, что хватит, еще и останется, и шел по своим делам дальше. Но уже часа в три, когда Пелагея Евстафьевна сказала, что Ефросинья чего-то не в себе, зашел бы он к ней, Козев остановился.