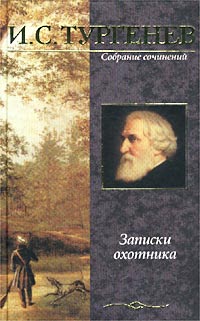Чары. Избранная проза

Чары. Избранная проза читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иными словами, я безнадежно влюбился в Шурочку. Я пропал.
Да, в Шурочку, некогда такую неуклюжую, угловатую, похожую на лягушонка, а теперь повзрослевшую и преобразившуюся, показавшуюся мне прекрасной незнакомкой, — вот какая странная вещь! Влюбился, и это было так же очевидно, как и то, что я сидел на стуле, положив на колени руки, и недоуменно разглядывал стены. Да, шаткий стул на выгнутых ножках, и я безнадежно влюблен. Влюблен, и руки на коленях, и мой недоуменный взгляд никак не может связать с этой любовью комнату, окно и дверцу старого шкафа.
Так просидел я очень долго, когда же, наконец, встал и вышел из комнаты, то это был уже не я, а совершенно иной — не похожий на прежнего — человек. Различие заключалось в том, что, если раньше я пренебрежительно отмахивался от Шурочки, униженно просившей меня с ней поиграть, то отныне я просил, а она — отмахивалась. Просил и даже слезно умолял, считая, что уж мольбы-то должны ее, жестокосердную, разжалобить, если не могут разжалобить просьбы. Ведь умолял не кто-нибудь, а я, никогда раньше не опускавшийся до такого позора! Она же все равно отмахивалась… Я умолял, а она — все равно… Отмахивалась, несмотря на то, что я согласен был мириться с унизительным положением отстающего участника ее игр, в которых она конечно же опережала, главенствовала, верховодила, гордилась своей ловкостью и смеялась над моей неуклюжестью. «Да ну тебя! Все равно не сумеешь!» — говорила она, выхватывая у меня из рук картонную куклу, которую я безуспешно старался одеть в намагниченное платьице, а оно то лезло вверх, закрывая лицо, то опускалось вниз, открывая плечи, а то и вовсе сползало, оставляя картонную красавицу в постыдном неглиже.
Я безропотно подчинялся, лишь бы меня не прогнали совсем, и вскоре — после нескольких минут молчания, затраченных Шурочкой на рассерженное доодевание куколки, а мною на неловкие попытки загладить свою вину и оправдаться в ее глазах, — становилась окончательно ясна моя участь. Она заключалась в том, чтобы быть даже не отстающим участником, а всего лишь безмолвным свидетелем, немым соглядатаем девчоночьих игр. Большего мне с моими грубыми, покрытыми ссадинами и волдырями от ожогов, негнущимися пальцами, не приспособленными для одевания кукол, никогда не позволили бы — как ни проси, как ни умоляй! Не позволили бы, несмотря на готовность смириться с любым позором. Не позволили бы, и все тут, но я не обижался на Шурочку. Не обижался потому, что любил ее, и эта странная, драгоценная и хрупкая любовь-вещь хранилась во мне, как в комнате.
Человек-комната, я словно бы обнимал эту вещь собой, бережно заключал ее в своем пространстве и боялся сделать неосторожное движение, чтобы она — не дай бог! — не упала и не разбилась. Мне хотелось лишь одного — отдать, подарить, преподнести на благоговейно протянутых руках эту вещь Шурочке, чтобы она принадлежала нам обоим, чтобы мы держали ее с разных сторон, словно драгоценный сосуд за хрупкие стенки. Но случилось так, что Шурочка не приняла, отвергла мой подарок. Когда я протянул его ей, она досадливо сморщилась, состроила капризную мину, с брезгливым недоумением взяла в руки и тотчас разжала пальцы, словно желая поскорее от него избавиться.
Сосуд упал и разбился — к ее притворному сожалению, и у меня в руках остался лишь жалкий осколочек-половинка. Жалкий, неказистый, с зазубринами — это и была моя безответная любовь к Шурочке. Любовь-осколочек, любовь-половинка, я и сейчас вспоминаю о ней, и то далекое время кажется мне самым счастливым на свете, когда я поднимаюсь по узким, скрипучим ступеням на мой одинокий чердак. Да, поднимаюсь, открываю дверь, обитую проволочной сеткой, сбрасываю стоптанные войлочные ботинки, разматываю шарф и валюсь на продавленный, пыльный диван с выпирающими ребрами пружин и отваливающейся боковиной. Валюсь и смотрю в потолок, на котором — от прикосновения моего воспаленного взгляда — возникают причудливые тени. И я снова вижу Шурочку, самозабвенно меняющую платьица на картонной кукле, вижу залатанный фанерой дачный домик с замшелым валуном вместо ступеней крыльца и марлевыми занавесками на окнах, вижу забор, разгораживающий наш участок, и вижу шестидесятые годы…
Сведения об Иоанне
Те самые шестидесятые, которые дедушка считал временем Иоанна, чье Евангелие особенно старательно и пытливо изучалось в его кружке, собиравшемся за дверью с тяжелым кольцом, вставленным в пасть медного льва, и стеклами цвета морской волны. И вот я открываю книги и листаю страницы, хранящие наполовину стертые карандашные пометки, и мой евангелический метод впервые оказывается бессильным перед тайной, которую — судя по пометкам и подчеркиваниям ногтем — тщетно пытался разгадать дедушка. На тех страницах книг, где приводятся отрывочные сведения о четвертом евангелисте, почерк дедушки становится совсем неразборчивым, а нажим карандаша настолько слабым, что прочесть ничего невозможно. Ничего, кроме многоточий и вопросительных знаков, выдающих смутную растерянность дедушки перед тайной четвертого евангелиста. Эта растерянность передается и мне, листающему книги на шаткой библиотечной лесенке, и, когда я с лесенки пересаживаюсь за рассохшийся стол, моя рука тоже выводит лишь многоточия и вопросительные знаки.
Что же мы знаем о земном пути Иоанна, таинственного покровителя шестидесятых?
Отрывочные сведения о нем сводятся к тому, что Иоанн, написавший четвертое Евангелие, был учеником Иоанна Крестителя в то самое время, когда тот, облаченный в одежду из грубой верблюжьей шерсти и подпоясанный кожаным ремнем, с обветренным, обожженным палящим солнцем пустыни лицом, посохом в руке проповедовал на реке Иордан. Проповедовал, призывая всех к покаянию. Таким образом, Иоанн впервые увидел Иисуса еще до начала его общественного служения: это случилось в Иерусалиме. «Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него тот день. Было около десятого часа». Вот оно как: даже время запомнил Иоанна настолько дороги были для него мельчайшие подробности этого дня, проведенного с Иисусом!
На глазах Иоанна произошла встреча Крестителя с Иисусом, закончившаяся крещением Иисуса и сошествием на него Святого Духа, а затем — через много лет — Иисус встретил будущего евангелиста на берегу Тивериадского озера, где тот рыбачил вместе с отцом Зеведеем и братом Иаковом. «Встретил и тотчас призвал их, — пишет об этом евангелист Марк. — И они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». Так началось ученичество Иоанна и его брата Иакова у Иисуса, который вскоре оценил их преданность и пылкую приверженность вере и, отдавая должное их кипучим натурам, наградил обоих братьев прозвищем Воанергес — Сыны Громовы. В дальнейшем они не раз подтвердили свое право на это прозвище, и в одной из книг, доставшихся мне в наследство от дедушки, я прочел о том, как братья грозились свести огонь с неба на самарянское селение, враждебно относившееся к их учителю.
Особенным рвением, упорством и неутомимостью в проповедовании новых духовных истин отличался Иоанн, призванный свыше к выполнению особой миссии, обладавший таким запасом жизненных сил и духовной крепостью, что Иисус однажды сказал о нем: «Ученик сей не умрет». Это предсказание оправдалось в буквальном смысле: по некоторым сведениям, почерпнутым мною из книг, Иоанн дожил до глубокой старости и, не дождавшись смерти, сам лег в могилу, и проходившие мимо люди видели, как земля поднималась от его дыхания.
Свое Евангелие Иоанн создал уже глубоким, седобородым стариком — ему было около ста лет. Создал, поселившись в Эфесе, одном из крупнейших городов империи, соперничавшем в своем великолепии и богатстве духовных традиций с Антиохией Луки и Римом Марка. Главной святыней города считался величественный, сверкавший белым мрамором Артемизион — храм, посвященный богине Артемиде. За много веков до Иоанна в Эфесе жил философ Гераклит, которого почитали в городе как величайшего мудреца. Гераклит передал на хранение жрецам храма свой философский трактат «О природе» — передал с условием, что он будет опубликован лишь после его смерти. Именно он, Гераклит Эфесский, впервые разработал учение о Логосе — духовном первоначале мира с которым Иоанн отождествил Иисуса Христа: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». Так писал Иоанн в своем Евангелии — Евангелии Слова и Любви, единственном, в котором я не нахожу экзистенциальных отсветов. Не нахожу нигде, ни в одной строке, как будто и нет их, зеленовато-красных, и лишь голубое сияние струится надо мной. И я снова вижу мои шестидесятые годы, забор, разгораживающий наш участок, марлевые занавески на окнах и замшелый валун перед крыльцом…