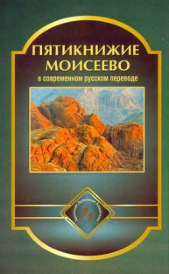Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как уже было сказано, стоял ноябрь. Десятое ноября, среда, 1938 года.
До начала Большой войны на Западе оставалось девять месяцев и двадцать дней.
Хильда отдернула занавески на окне и осталась разочарована тем, что увидела. Она сама не знала, чего именно ожидала, но этот городской пейзаж вовсе не походил на рекламные плакаты бюро путешествий, или на сбывшиеся надежды тех, кто им поверил. Унылые, покрытые копотью фасады, развешенное на просушку белье, а далеко-далеко внизу, как будто ее отель располагался на Монблане, — бескрайнее хитросплетение железнодорожных путей, стрелок, проводов и семафоров, брошенные в тупиках разваливающиеся вагоны и одинокий, пыхтящий маневровый паровозик, который из ее окна выглядел детской игрушкой. Гостиница была популярна среди постояльцев со скромными средствами — категории «две звезды», одна из которых, увы, уже почти закатилась.
Отсюда не было видно ни Эйфелевой башни, ни Монмартра, ни Триумфальной арки, ни темно-серебристой ленты Сены, рассекавшей город и отражавшей небо над ним. Она знала Париж как свои пять пальцев — не только бульвар Сен-Мишель, Лувр, и Нотр-Дам, но даже бистро на углу напротив ее полуторазвездочного отеля. Хильде казалось, что она лично знакома с его хозяином. Никогда раньше не бывав в Париже, она увлеченно, чуть ли не сладострастно, изучала французский язык и литературу в Берлинском университете имени Гумбольдта, и этот изумительный город со всей ясностью присутствовал в ее сознании. Увы, студенческая жизнь Хильды оборвалась рано и безвозвратно — когда пришло к концу жалкое наследство, оставленное ей родителями. Но мечта увидеть Париж своими глазами жила: увидеть его не на страницах книг, не в кинокадрах, а во всем его истинном блеске, вдохнуть его воздух, услышать его звуки — лизнуть его и почувствовать его вкус, выпить чашечку кофе у своего вымышленного знакомца, по-соседски дружелюбного провансальца из бистро на углу. «Доброе утро, мадемуазель Хильда. Вам как всегда? Значит, кофе с круассаном, ведь так, мадемуазель Хильда?»
Огорчение из-за безрадостного вида за окном быстро улетучилось: какое счастье быть здесь, хоть ненадолго вырваться из удушливой атмосферы Берлина, этого амбара Европы, как назвал его неизвестный Хильде Илья Эренбург. Можно было расслабиться, забыть о гнетущих тревогах и слухах, о бесперспективных актерских курсах, о тех идиотах, которые считали, что крошечная роль из двух реплик приведет их прямиком в твою постель. Так приятно было избавиться от бесконечных дублей во время массовок, когда, непонятно почему, всю толпу в сотый раз возвращают на исходную позицию, снова и снова, как стадо, прогоняя перед камерой. И так — целый день: за пять марок в костюме студии и за шесть с половиной в своей одежде, если она подходит для фильма, о котором ты понятия не имеешь и который, по всей вероятности, никогда не посмотришь. Да еще вечные ухаживания ассистентов, воображавших, что якобы случайные прикосновения к твоему мягкому месту — кратчайший путь к твоему сердцу… И вечная дурацкая надежда статистки из массовки на то, что в один прекрасный день ее заметят, что режиссер, удобно развалившийся на служебном складном стуле, поманит пальцем ассистентку и тихонько спросит «Кто эта блондинка, вон там?» И тогда вся эта бессмыслица обретет смысл, и сбудется то судьбоносное предначертание, чей логический результат — широко распахнутая перед тобой дверь в большое кино. Ничего подобного, однако, никогда ни с одной статисткой не происходило.
Впрочем, пусть не в точности, но нечто подобное с Хильдой на этот раз произошло — вследствие чего она и проснулась нынче утром не в берлинском Грюневальде у себя в мансарде, а в парижской гостиничке.
Деликатно постучавшись, в дверь заглянул однорукий Вернер Гауке, легендарный фотограф студии УФА. Он потерял руку в Первую мировую войну под Верденом, что не помешало ему стать великим мастером художественной фотографии. Его изумительные фотоэтюды, славившиеся игрой светотеней, не раз украшали витрины Фридрихштрассе и Курфюрстендамм, выставлялись в галереях и репродуцировались престижными журналами. А еще он был известен как ловелас, чему не мешали ни его однорукость, ни плешь во всю голову, что будило недоумение непосвященных.
— Ну, милая, ты готова? Возьми все три костюма, будем целый день вкалывать. Я заказал машину, жду тебя внизу, в кафе.
— Приму душ и спускаюсь.
— Десять минут, куколка! Целую!
Послав ей звучный воздушный поцелуй, Вернер закрыл дверь.
В кафе ее и ждало первое разочарование — никакого провансальца из ее фантазий! Хозяйкой бистро была рыхлая матрона, вероятно, бывшая проститутка, вложившая в это заведение сбережения, добытые добросовестным трудом на парижских тротуарах. Дешевый пролетарский кофе, поданный не в фарфоровой чашке, а в пиале для бульона, был щедро сдобрен цикорием и не больно-то отличался от среднестатистического эрзац-варева в Бабельсберге, которое предлагалось в буфетах киностудий УФА. Зато круассаны оказались и вправду хороши. Но ведь Париж без Эйфелевой башни, «Мулен Руж» и круассанов не был бы Парижем!
И пошло-поехало. Смотри вниз! Облокотись на парапет — еще, еще! Свободнее, ты что замерла, как памятник? А теперь вытянись на скамейке — да выгнись, чтобы топорщились грудки! Отодвинься немного вправо, куколка, не заслоняй Обелиск!
Бедняга Вернер — ему, округлившемуся и отяжелевшему с возрастом, увешанному фотоаппаратами и объективами в кожаных футлярах, приходилось то и дело вытирать единственной рукой обильно потевшую плешь огромным платком, что отнюдь не мешало ему вкладывать все свое художественное воображение в достойное исполнение поставленной перед ним задачи. Задачей же было, ни больше ни меньше, создать коллекцию выразительных фотографий красивой немки на фоне Парижа.
Хильда совершенно случайно стала объектом этих его стараний.
После прихода НСДРП к власти в 1933 году все киностудии — от УФА и «Баварии-фильм» до ТОБИСа и «Терры» — были подчинены нацистскому министерству пропаганды, которым руководил колченогий Йозеф Пауль Геббельс, похожий скорее на профессионального шулера, чем на рейхсминистра. «Союз народного кино», который в лучшие годы возглавляли подлинные светила, в том числе Генрих Манн, Бертольт Брехт, Кете Кольвиц и Бела Балаш, разогнали. Несколькими годами раньше в Голливуд перебрались Эрнст Любич, Георг Пабст, Эмиль Яннингс, Лиа де Путти, Пола Негри, Грета Гарбо. В тридцать третьем Петер Лорре уехал в Лондон, а годом позже вместе с Билли Уайлдером подался за океан. Также в Лондоне прочно осела Элизабет Бергнер. Марлен Дитрих покинула Германию и отбыла прямым курсом на Беверли-Хиллз в самый день премьеры «Голубого ангела» еще в 1930 году, вместе со сделавшим ее звездой режиссером фон Штернбергом. Нацисты запретили к показу фильм Фрица Ланга, и он уехал во Францию, где снял свою знаменитую картину «Лилиом».
Немецкий экран осиротел, кануло в прошлое время великих триумфов «Куле Вампе», «Доктор Мабузе», «Метрополис» и «Безрадостный переулок».
Классическое немецкое кино приказало долго жить.
И вот тогда взошла звезда Лени Рифеншталь.
Карьера тридцатилетней посредственной актрисы и страстной спортсменки началась с «альпийских» фильмов — ни хороших, ни плохих, но все же «Буря над Монбланом» появилась в прокате даже в советской глубинке. Каждому творцу уготован звездный миг, распахивающий перед ним врата к успеху и славе, только надо не проглядеть его. Такое мгновение наступило для Лени Рифеншталь в 1935-ом, на съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге, где она сняла «Триумф воли». Помпезно-патетическая эстетика фильма была почти неотличима от многих советских документальных лент того времени, только с иной идеологической окраской: место Класса заняла Раса. В одночасье оказавшись в партийном фаворе, бывшая актриса разразилась новой серией фильмов, вершина которых — «Наш Вермахт» — стал культовым произведением, окончательно оформившим эстетические параметры нацизма. Лени Рифеншталь приняла активное участие в создании клише, ставшего государственным нормативом, — образа непобедимого германского воина, который впечатлял не мускулами, как какая-нибудь африканская горилла, а несколько женственной нордической красотой. Облик этого воина возбуждал национальную гордость, и никто не обращал внимания на тот факт, что ни сам фюрер, ни Геринг с Гиммлером, ни Борман такой арийской матрице не соответствовали. Тут и там среди партийной верхушки встречались напоминавшие эту модель красавчики, но, по слухам, большинство из них были нетрадиционной сексуальной ориентации.