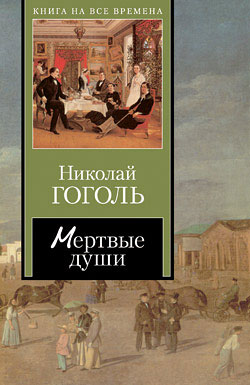Мертвые бродят в песках

Мертвые бродят в песках читать книгу онлайн
Имя видного казахстанского писателя Роллана Сейсенбаева известно далеко за пределами нашей страны. Писатель, общественный деятель, личность и гражданин – Роллан Сейсенбаев популярен среди читателей.Роман писателя «Мертвые бродят в песках» – один из самых ярких романов XX века. Это – народный эпос. Роман-панорама бытия. И главный персонаж тут не Личность, а Народ. В спектре художественного осмысления бытия казахского народа его глубоко трагические романы стали ярким явлением в современной литературе. Он поистине является Мастером прозы XXI века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И мать стала поправляться: вскоре стала выходить на улицу, подолгу сидела на воздухе, на солнце. Сайлау и Балкен очень к ней привязались – сколько она перечитала им сказок и на русском, и на казахском языках! Трехлетняя Балкен уже в три года читала и писала по-русски! Она же научила их играть в шахматы. Один из сыновей Такая сейчас мастер спорта по шахматам, живет в Алма-Ате. А у Балкен – первый разряд, чемпион области среди женщин.
Вскоре пришла весть о смерти Бокая. Токай поехал в Сибирь за телом брата. Тела, конечно, не получил – лагерное начальство даже разговаривать с ним не стало.
У матери повторился нервный шок, она снова легла. Как в бреду она повторяло себе: «Все несчастья в этом доме из-за меня. Он умер, а я жива. Я не имею права жить – я тоже должна умереть. Только тогда простит меня бог, простит Даулеткерей, простит Толкын-апа, простит Нуржамал, простит Токай, простят Сайлау и Балкен. Простите меня, добрые люди! Кто бы тронул вас в этом богом забытом, никому ни нужном ауле, ели бы не я?» Она и сама потом не могла в точности повторить эти свои бредовые, навязчивые мысли. Когда к аулу подъехала еще одна повозка, в который громко рыдали родственники, мать встала с постели, вышла из юрты и пошла куда глаза глядят. «Я должна умереть! – повторила она себе. – Я не имею права жить!» Она шла долго, к вечеру выбрела на какой-то шалаш, присмотрелась – это были сенокосные поля Даулеткерея. «Как я далеко ушла!» – испугалась она, но тут же подумала: ей теперь все равно, чем дальше – тем лучше. Вошла в шалаш, бросилась на сено и стала плакать. Незаметно для себя уснула. И вот какой приснился ей сон.
Приснилась ей душа Бокая – так это поняла мать, потому что самого Бокая она не видела, а слышала только его голос. «Надя, здравствуй, – сказал этот голос. – Как ты оказалась в этом шалаше далеко от дома – что еще за чудеса?» – «Мне надо умереть, Бокай, – ответила мать. – Я не имею права жить после того, как не стало тебя…» – «Я запрещаю тебе так думать! – ответил гневно Бокай. – Слышишь ты меня, сестра? Запрещаю! – И продолжал спокойнее: – Рассуди сама: теперь мне никто ничем не может помочь. А то, что придумала ты – просто смешно!» – «Что же мне делать, брат! – вскричала мать. – Как же мне жить дальше?» – «Если хочешь мне помочь, если ты любишь меня, Надя, – прими близко к сердцу моих детей: Сайлау и Балкен. Вот такая у меня просьба – Сайлау и Балкен…»
Мать проснулась в испуге. Была уже ночь. Бредовые мысли не оставляли ее – словно невменяемая ходила она около шалаша и бормотала: «Только и всего?! Легко же ты хочешь отделаться от своего греха! Знай, Надя, нет тебе пощады! Умри! Умри! Умри!» Стало светать. Приметила в траве какую-то веревку, прижала к груди. Ее осенило: «Это знак. Знак мне». Спустилась к ручью, который протекал недалеко. У ручья росло большое дерево – она привязала веревку к толстому суку. Потом умылась в ручье – теперь она была чистая не только душой, но и телом для того, чтобы отправиться в другой мир. Она встала на опрокинутое ведро, которое предварительно принесла из шалаша, сунула голову в петлю и шагнула в воздух. Веревка, всю зиму пролежавшая под снегом, лопнула, не выдержав тяжести. Даулеткерей искал ее всю ночь по степи. Потом сообразил про шалаш и утром был там. Он нашел плачущую мать у ручья, привез домой.
– Вот так она осталась жить, – грустно улыбнулся Семен Архипович. – С разрешения Бокая, можно сказать…
Через два года я уже свободно говорил по-казахски, благодаря Токаю. Не только говорил, но и пел казахские песни. Голоса у меня особого не было, потому я любил петь на просторе, в одиночестве, для себя.
Даулеткерей научил меня кузнечному делу, которым сам владел очень хорошо. Когда приходил черед пасти отару Токаю, я оставался дома, помогал по хозяйству Даулеткерею. У него была небольшая кузница на окраине аула, где мы проводили много времени. Отец Даулеткерея был известным в этих краях зергером – мастером по золоту и серебру. Как-то, разглядывая подарок Кудайбергена, Даулеткерей сказал: это не наш орнамент, не найманов – это ковка мастеров из племени тобыкты. «Тонкая работа, – одобрительно качал головой Даулеткерей. – К знаменитому Кунанбаю стекались в аул видные мастера – кто-то из них и сработал этот великолепный пояс». А когда я подарил ему этот пояс, он растрогался, повесил его над своим изголовьем, наказов: «Когда умру – заберешь его обратно». Я не стал забирать, оставил его Токаю.
Как ни хорошо мне жилось у Даулеткерея, а все равно стало тянуть в город, к людям, к шумной жизни. Я стал предлагать матери переехать в город – я бы пошел работать на завод, ничего, вдвоем бы прокормились. Мать к тому времени уже реабилитировали, но уезжать от Даулеткерея ей не хотелось – очень она привязалась к старику. К тому же ей постоянно надо было пить кумыс для поддержания здоровья – а откуда в России кумыс?
Но как сильно она пустила корни в казахскую землю, я узнал позднее – после того, как мы побывали в Пензе, то есть в родных местах. Деревенька наша зачахла совсем – всего три старушки осталось в ней. Бабы Марфы давно уже не было на белом свете. Печально смотрели мы с матерью на заколоченные дома, на дворы поросшие бурьяном. И такая картина была во всей округе – по всей нашей Пензенской области. Больно стало у меня на сердце за нашу Россию – показалась она мне похожей на этих трех дряхлых старушек: забыта, заброшена… Еще тяжелее было все это видеть матери – по дороге она то и дело всплакивала, тяжело вздыхала. Поехали в Никольск. Хоть и мал городок, а ведь был когда-то знаменит на всю Россию – славился своим стекольным заводом. Могилы ее родителей, конечно, не нашли – столько лет прошло! Пошли в местный музей. В музее мать заметно повеселела – подолгу стояла у каждого экспоната у стекла. Она знало историю каждой вещи здесь, и меня это не удивило, ведь ее отец был на этом заводе мастером не последней руки. Мы подошли к любопытному изделию – вещь эта называлась «Стакан с мухой». Мать стала рассказывать: «Престарелый князь Бахметьев – владелец этого завода – очень огорчался, что его единственный сын крепко пил. Князь боялся, что после его смерти дело развалится, что пропьет его вчистую. Собрал он своих мастеров и поделился с ними своей озабоченностью. Конечно, всерьез никто не взялся советовать чего-либо князю, но один из мастеров предложил отлить стакан с изображением мухи. Забавность этой вещи заключалась в том, что если наполнить его жидкостью – муха начинает шевелить лапами как живая. Молодой князь пить, естественно, не бросил. И Бахметьев подарил свой завод племяннику Оболенскому…
А вот два совершенно одинаковых кубка – у них тоже интересная история. Бахметьев привез один из таких кубков из Парижа и стал укорять своих мастеров – вот, мол, какие вещи делают в заграницах, а вы что же? Тогда один из старых стеклодувов попросил этот кубок у Бахметьева на три дня. А через три дня перед князем стояли два совершенно одинаковых кубка. Как ни вглядывался князь, а понять не мог, где заграничный, а где наш – отечественный. Дали на химический анализ, но так и не смогли выяснить, какой французского мастера, какой – русского. С тех пор эти кубки всегда вместе».
Вот что рассказала она мне в музее, преображаясь на моих глазах – лицо ее было счастливым, даже морщины на какое-то время разгладились. Вот ведь как возрождается, как воспаряет душа человека, когда он говорит о прошлом прекрасном времени!
Но недолго я радовался этому. Вышли из музея и нас обступила теперешняя жизнь – тревожная. Расхлябанная, похожая во многом на пир во время чумы. И не, в переносном смысле слова – практически в прямом. Весь Никольск кишел пьяным народом – а ведь был будний день. Пьяные были у магазинов, на улицах, в каких-то канавах – мне даже показалось, что сам этот городишко совершенно пьян: какой-то весь серый, неказистый, вкривь и вкось разбегающийся домишками по косогорам. А вокзал! Да он просто набит был какой-то наглой, бесшабашной пьянью – жутко было смотреть! Мы с матерью ждали автобуса на Пензу. Пьяные эти мужички шастали туда-сюда – у них за пазухами были хрустальные вазы, салатницы и даже люстры, небольших, конечно, размеров! И вазы, и салатницы, и люстры отдавались за бутылку водки! Было много кавказцев – они скупали все это и торопились к своим машинам, потом возвращались и снова бежали с полными руками к багажникам. Один из мужиков подошел к матери: «Мать, всего за пятерку! Возьми, не пожалеешь!» – «Мне стыдно покупать чужую честь, да еще так дешево», – холодно сказала мать и отвернулась. Она расстроилась совершенно. Мужичок стал оправдываться: «Это же не ширпотреб – это моя ручная работа! А свою работу продаю, за что хочу. – И он стал совать вазу мне. – Не хочу отдавать этим печеным. Хочу, чтоб по-душевному было – только русскому человеку! Они весь Кавказ завалили нашим хрусталем! У нас – за пятерку, там – за пятьсот. Покупают нас, можно сказать, с потрохами. – Он сильно шатнулся. – А я выпить хочу, слышь, браток. Бери, не пожалеешь».