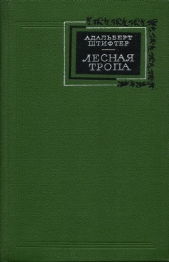Избранное
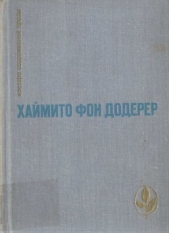
Избранное читать книгу онлайн
В книгу крупнейшего современного австрийского прозаика, классика национальной литературы, издающуюся в Советском Союзе впервые, входят его значительные произведения: роман «Слуньские водопады» — широкое социальное полотно жизни австрийского общества на рубеже XIX–XX вв.; роман «Окольный путь» — историческое повествование с замысловатым «авантюрным» сюжетом из жизни Австрии XVI в., а также ряд повестей и рассказов.
Произведения, включенные в настоящее издание, опубликованы на языке оригинала до 1973 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он ясно почувствовал, насколько легче, светлее стало с этой минуты у него на душе, и это приятное расположение духа сохранилось у него и далее, когда он увидел особенно выпуклые в закатных лучах и так хорошо знакомые ему бастионы и передовые укрепления, желто-серые и скошенные, будто широко расставленные ноги крепкого городского туловища, увидел уже затененные синими сумерками улицы предместья, кишащие людьми и повозками, которые все стремились к городским воротам и сбивались под ними в кучу, а миновав их, сплошным потоком текли по мосту. Тягучие, мягкие звуки чуждого ему говора овевали Мануэля, сдабривая свежий, но не холодный осенний воздух, будто пряная приправа; и, попав в затор у ворот, он слегка свесился с коня, и ему удалось даже при весьма посредственном, несмотря на прожитые здесь годы, знании местного языка, уловить несколько слов из веселой перебранки, шедшей как раз впереди него. В то же время над лукой седла поднялась, ударяя ему в нос, волна смешанных испарений и запахов — здесь на повозке везли овощи, там — винную бочку, а вот и целую гору яблок, — запахи пестрого человеческого скопища, крепкие, как сама жизнь. Две девушки, ехавшие на повозке с фруктами, чернявые, пухленькие, с маленькими вздернутыми носиками, какие часто можно увидеть в этих краях, обернувшись назад, бойко отвечали какому-то парню, который задирал их насмешками, и, пока они, не переводя дыхания, сыпали и сыпали словами, их черные, будто вишни, глаза сверкали царственно-гордо, а меж пухлых губ взблескивали острые белые зубки, напоминавшие оскал маленького хищного зверька.
Мануэль подъехал к дому. Навстречу ему в палисадник скромного особняка высыпали слуги. Когда он вошел к себе в кабинет, смотревший четырьмя высокими узкими окнами в небольшой парк — за неширокой террасой виднелся пруд с осыпавшейся облицовкой из серого песчаника, — ему подумалось, что этой тихой комнате со светло-зелеными штофными обоями, которую ему отныне предстоит по-настоящему обживать, суждено стать средоточием множества будущих событий и переживаний, и множество нитей потянется отсюда в пеструю сутолоку большого города; у него даже появилось ощущение, будто стены выгибаются под напором ожидающей его здесь новой жизни.
Он был весел и радостен, как никогда, сдержанно-радостен, и душа его раскрывалась, словно форма, готовая принять изливающийся в нее поток.
Граф Мануэль Куэндиас де Теруэль-и-де Каса-Павон, вступивший ныне в тридцать первый год своей жизни, никогда еще не испытывал ничего подобного. Рано осиротев и проведя свои детские и юношеские годы у родни в кастильских замках, где его держали в такой строгости, что мальчик вынужден был как бы откладывать свое детство на будущие, быть может более вольные, годы жизни, а покамест в угоду старшим и из уважения к ним вести себя совершенно по-взрослому, — проведя, стало быть, свою юность без матери, чья нежная рука могла бы смягчить суровость нравов, присущих его эпохе и сословию, Мануэль, должным образом обученный всем наукам и искусствам, подобавшим молодому человеку его звания, для начала стараниями родственников был определен к венскому двору. Все принадлежавшее ему на родине имущество — поместья, дома и прочее — опекуны графа обратили в наличные деньги, которые он привез с собой в новую отчизну, где их опять, и, по-видимому, не без убытка, вложили в арендные угодья и надежные ренты. Тогда же, кстати, был приобретен и упомянутый выше небольшой городской особняк. Недолго спустя после переезда в резиденцию императора Мануэль достиг наконец совершеннолетия, получил право самостоятельно распоряжаться доставшимся ему наследством и подал прошение на офицерский патент, каковой и получил в полку Кольтуцци ровно через год после заключения великого мира, то есть в году тысяча шестьсот сорок девятом.
Теперь, по окончании войны, условия службы были как нельзя более благоприятными. Правда, всякий молодой человек, даже в положении Мануэля, должен был некоторое время прослужить обыкновенным лейтенантом, но поскольку в подобных случаях любая офицерская должность означала не что иное, как первую ступень к получению в близком будущем полка, то производство в чин ротмистра обыкновенно не заставляло себя ждать, а в этом чине или в следующем за ним чине подполковника человек пребывал лишь до тех пор, пока не освобождался какой-нибудь полк. Ступени ожидания в чине ротмистра Мануэль достиг ровно через два года после несостоявшейся казни Пауля Брандтера и тем навсегда был избавлен от необходимости командовать караулом при подобных оказиях. Напротив того, теперь на его обязанности преимущественно лежало наблюдение — правда, почти ежедневное за экзерцициями в верховой езде и фехтовании, которые велись лейтенантами и прапорщиками с помощью унтер-офицеров. Между прочим, в те времена от простого рейтара требовалось многое такое, чему ныне обучает лишь так называемая Высшая школа верховой езды, а такие приемы, как, например, курбет и тому подобные, при рубке с седла применялись весьма часто, следственно, должны были заранее войти драгуну в плоть и кровь.
Незадолго до странной выходки Мануэля на охоте полк Кольтуцци некоторое время пробыл в состоянии готовности к маршу, в каковое был приведен по указанию императорского военного совета, хотя тот отнюдь не почел себя обязанным назвать в объяснение сего какие-либо причины. Последние меж тем раскрывались из ходивших в Вене слухов, в общем довольно путаной смеси из рассказов об уже вспыхнувших или назревающих крестьянских волнениях в Штирии и вновь оживших разговоров о подозрительном поведении турок. Эти толки всю зиму не прекращались, ненадолго умолкнув, они вскоре возобновлялись, обогащенные новыми подробностями, а к лету стали усиливаться; одни говорили, что лютеранские проповедники якобы подстрекали и подстрекают селян к бунту, другие — что лютеране тут совершенно ни при чем и виноваты владельцы поместий, которые доняли крестьян непомерными поборами и барщиной и разъярили против себя, на это, однако, возражали, что штирийские землевладельцы как раз и есть сплошь лютеране, так что виноват опять-таки еретик. Или турок! Нетрудно себе представить, до какой нелепицы доходила подчас эта болтовня, не подкрепляемая никакими доказательствами или фактами. Тем не менее она продолжалась, и на этом основании целый драгунский полк со дня на день ожидал сигнала к выступлению, каковое обстоятельство ее преминуло дать новую пищу досужим вымыслам.
Однако даже такое временное состояние не делало для дворянина в позиции Мануэля, то есть для командира эскадрона, его службу более неприятной или тягостной.
Жил он уединенно. Сношения с людьми его круга, к коим обязывали его тесные сословные узы, в особенности сношения с испанской знатью, он, насколько мог, ограничил, расположением общества этот чопорный человек, по существу, никогда и не пользовался, а если бы и пользовался, то памятные события, имевшие начало в июле пятидесятого года, менее всего призваны были подобное расположение сохранить или упрочить. Более тесную связь поддерживал он только с семьею Тобар, с Игнасьо и его старшей сестрой Инес, которых посещал и в Энцерсфельде, и в их городском доме, стоявшем несколько на отшибе, в стороне от квартала испанских особняков на Левельбастай. У Инес, девушки умной и доброй, правда скорее обаятельной, нежели красивой, Мануэль поначалу, при первом его появлении в Вене, своей замкнутой и в ту пору довольно мрачной манерой вызвал прямо-таки неприязнь, однако в угоду брату она держала себя с графом приветливо, а по прошествии нескольких лет вынуждена была признаться себе, а также Игнасьо в том, что Мануэлю, несомненно, присущи черты, достойные всяческого уважения. Позднее это уважение переросло в поистине дружеские отношения между ними, насколько наш нынешний ротмистр был вообще на таковые способен.
Жил он уединенно. Теперь, после странного оцепенения, пережитого им на Шнееберге, в его мрачном одиночестве замелькали проблески света, чего доселе не бывало. Ночные грезы, вот уже несколько лет увлекавшие его в темные глубины неизбывной тоски и муки — всякий раз он что-то кричал по-испански Ханне, а она, оттопырив губы и обнажив белые, как у хищного зверька, зубки, неизменно отвечала на своем малодоступном ему языке, — эти грезы с недавних пор овевал светлый стяг надежды, словно вскипевшая над темно-зеленой пучиной белопенная волна. В эти сны вплеталось — такое явление, сказали бы мы, вполне объяснимо — давно лелеемое графом желание изучить немецкий язык и сверх того мало-мальски овладеть местным наречием, чтобы если и не говорить на нем, то хотя бы его понимать. Между тем, когда он просыпался и приходил в себя, стремление это всякий раз встречало в его душе непреодолимый заслон, непреодолимый настолько, что он прямо-таки избегал случаев поупражняться и расширить свои небольшие познания: во сне он этот язык любил, а наяву ненавидел. Но теперь изменилось и его отношение к языку. Он даже решил поискать себе учителя. Но где его искать? От Игнасьо он это свое желание таил, а изучать язык по книгам в тиши зеленого кабинета казалось ему ненадежным.